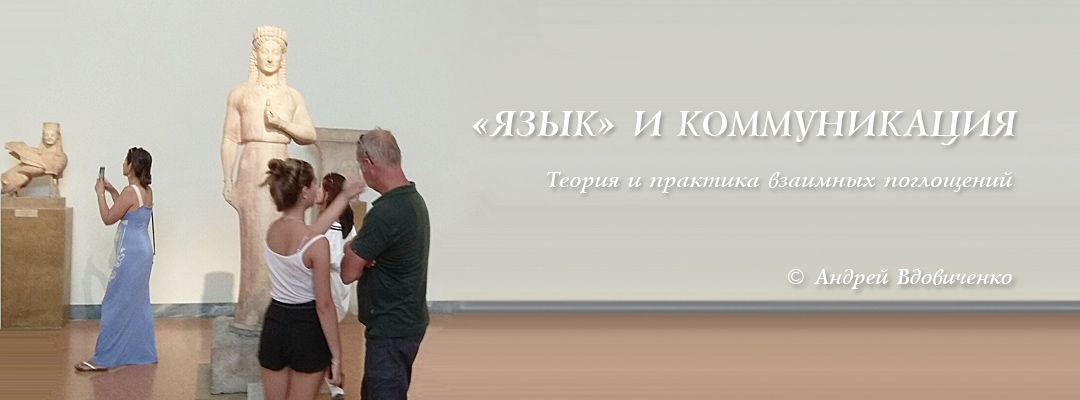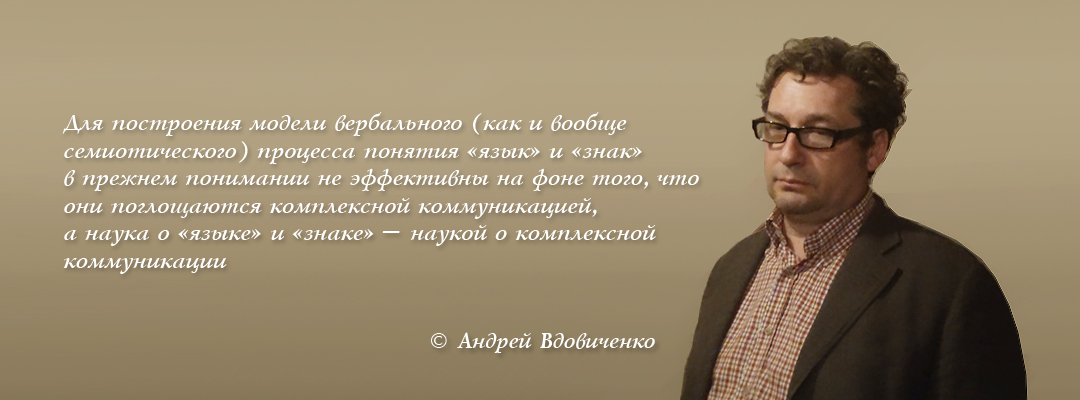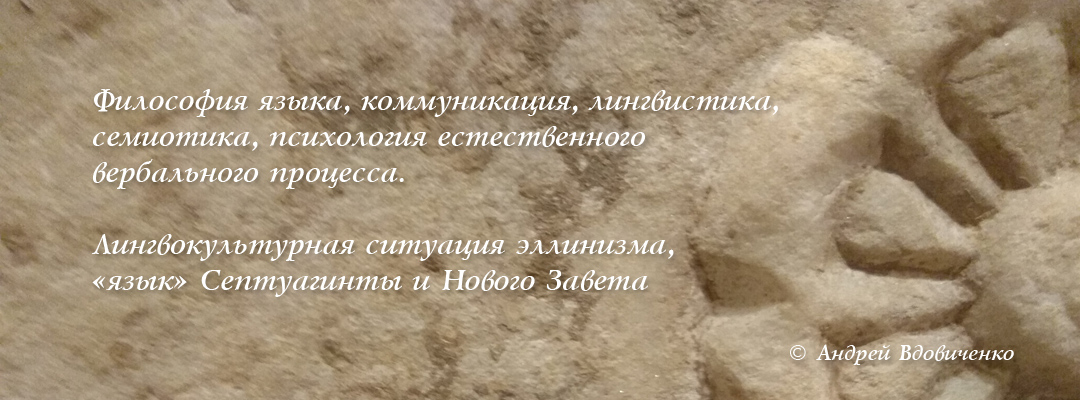Автор статьи «Относительно марксизма в языкознании» (и добавлений к ней, лето 1950 г.) выступает наивным (спонтанным) теоретиком естественного вербального процесса. Ориентация изложения на лапидарность выдаваемых формулировок-указаний только усиливает определенность марксистской картины языка, очерченной в принципиальных аспектах: отношение языка к обществу, нации, культуре, истории, классам, диалектам, грамматике и словарю, сознанию, мысли, деятельности, и даже к самой дискуссии по научным вопросам. В «материалистической» теории языка (которая по большинству позиций, как ни странно, может и не вызвать возражений современных языковедов) слова «идеализм» и «идеалистический» используются как ругательные и унизительные. На семинаре обсуждаются возможность согласиться (что проще) и не согласиться (что сложнее) с воззрениями «большого ученого» (Ю. Алешковский), то есть – несколько упрощая – определить меру марксизма («материализма») и «идеализма» в понимании вербального процесса. Коммуникативная модель, в отличие от языковой, предоставляет концептуальные инструменты, достаточно эффективные для критики марксистской интерпретации вербального факта.
На семинаре критическое освещение получат несколько положений, санкционированных И.В. Сталиным (Джугашвили) в качестве основ «марксистского» языкознания:
- Тождество объекта «язык»;
- Определенность границ языковых (коммуникативных) коллективов;
- Тождество мысли и языка, тождество сознания и языка;
- Орудийность языка в практической деятельности.
Приглашенный собеседник Кирил Меламуд, филолог, переводчик, художник
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
А.В. Вдовиченко о состоявшемся общении и ответ Г.В.Дьяченко о не/корректности (не/точности) перевода Logos посредством «Слова». (Ин 1 и дал.). Фрагмент переписки по результатам семинара
Для тех, кто интересуется, отвечаю Галине Викторовне и даю свое видение нашего состоявшегося общения. Смысл нашего обсуждения, по первоначальному замыслу, полагался в области философии языка. Какую-то философию «языка» исповедует любой, кто рассуждает о вербальном процессе со стороны, а не просто действует в коммуникативном пространстве с вовлечением, помимо прочего, фонетических комплексов (автоматизированных клише, называемых «словами»). Преподаватель, разбирающий со студентами текст и говорящий «данное слово такого-то языка означает то-то», уже признается в том, что исповедует наивное (языковое, словесное) понимание того, что происходит в области смыслопорождения. Характерно, что Сталин (или тот, кто написал «Марксизм и вопросы языкознания») полностью согласен в основных позициях с наивной картиной, господствующей в сознании не только профанов, но и многих академических исследователей и богословов. Основные положения этой наивной картины: слово обозначает понятие, понимаются «слова»; слова известны всем представителям коммуникативного коллектива в виде всеобщих «языков» (национальных языков, диалектов, жаргонов и пр.); мышление организуется (оформляется) словами (языками); словами передаются (отражаются, формируются) мысли, слово имеет значение (смысл), язык есть всеобщий инструмент обмена мыслями, и пр. Коммуникативная модель, которую я развиваю, более реалистична. Никакое слово не обладает формально-содержательным единством, пока не констатирована конкретная процедура семиотического воздействия (в том числе с участием слов). Так, никто не может сказать только на основании слова, что означает [я], [модель], [идет], [потом], [бог], [верный] и пр. Никакой знак не обладает независимой референцией — самостоятельной способностью на что-то указывать. Только в самом коммуникативном акте, а не в языке, присутствует подлинный источник любого смысла и значения — индивидуальное сознание, которому необходимо произвести изменения в постороннем сознании. Только этот процесс может пониматься и производить смыслообразование. Смысл (значение) любой семиотической процедуры — в лично производимом воздействии. В безличном языке и слове воздействия нет, именно поэтому в словах языка, не вовлеченных в многофакторную процедуру воздействия, никакого смысла и значения нет и не может быть. Только для воздействия нужны процедуры с использованием знаков. Производить изменения в коммуникативном пространстве и мыслить (планировать, сопоставлять и пр.) — принципиально разные занятия. Когнитивные операции совершаются без всяких слов, которые нужны коммуниканту (как и иные условно выделяемые «знаки») только для того, чтобы произвести попытку изменения во внешних когнитивных состояниях, на основе предъявляемого акционального режима собственного сознания. Предъявить этот режим можно только в комплексной параметрированной ситуации путем использования слов, жестов, интонаций, остенсивов, рисунков — главное, достигнуть искомую цель. Этот режим сознания понимается адресатом — на чем фиксировано внимание коммуникативного актора, что для него важно, какие связи он устанавливает, чего хочет добиться, какие ценности имеет, и пр. Нельзя мыслить слова как модули «форма-значение». В них нет ничего без индивидуального воздействующего сознания. Такая диспозиция отрывает от «материалистической марксистской» почвы и дает иные перспективы исследования вербального процесса. Наоборот, все те, кто признает язык как целостный (тождественный) объект исследования, объединяет слово и сознание, видит всех носителей одного языка думающими одинаково, считает единицы языка модулями «форма-значение» — все они от «великого ученого» (автора «Марксизма и вопросов языкознания») далеко не ушли. Что касается возражения Галины Викторовны. В попытках признать слово «вербально-когнитивным единством» содержится опасность подчинить сознание языку. У Отцов, на которых она ссылается, отделение слова от сознания предпринимается непоследовательно. Вербальная и когнитивная деятельность смешиваются. Акционального («воздейственного») характера семиотической процедуры они не видят. Обмен мыслями посредством слов признается совершающимся по умолчанию для всех говорящих. Из признания «вербально-когнитивного единства» возникают фантомы типа «словесная (вербально-когнитивная) природа человека», «языковое сознание», «языковая картина мира», «национальная ментальность», «русский мир» и пр., приветствуемые как богословами, так и Сталиным и многими языковедами. Что касается перевода «логоса» посредством «Слова», то важно, как и в любом тексте, расшифровать содержащийся в нем намек на авторское когнитивное состояние, тот самый акциональный режим сознания автора («семиотического актора»), восстановить целостное коммуникативное действие — кто что мыслил, чего хотел, какие связи хотел передать и пр. Перевод «логоса» у Иоанна («в начале было Слово») невозможно интерпретировать вне стоическо-платоновской и в целом эклектичной позиции Филона, иудейско-эллинистического философа, не-христианина. Автором формулы «им же вся быша», «которым все стало» (ди хон та панта эгенето) является Филон (De cherubim 128). В его развернутых аналогиях Логос, скорее, — разум, ум, когниция. Напр., когда владыке нужно построить город, ТО ВЫЗЫВАЕТСЯ АРХИТЕКТОР (логос), КОТОРЫЙ ВСЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, РАЗМЕЧАЕТ И СОЗДАЕТ ПЛАН (De opificio mundi). При чем здесь «слово» (слова)? А вот «разум», «мышление», «когнитивная деятельность» очень даже уместны. Другое дело, что богословы-философы тоже могли, как и Сталин, и современные языковеды, смешивать когнитивную деятельность и слова (элементы семиотического воздействия). Так что не будем обожествлять древних, а будем вступать с ними в диалог и мыслить критически.Кстати, никакой целостностной позиции ни в византийском, ни в русском богословии нет. Василий и Григорий Нисский были едва ли не единственными, кто более-менее здраво смотрели на вопрос о соотношении деятельности сознания и «слова». Остальные до сих пор считают, что Иоанн имел в виду «слово (слова) естественного языка». Хочется спросить у Галины Викторовны, отстаивающей вербально-когнитивное единство «логоса»: какое «слово» и какого языка имел в виду евангелист? Думаю все же, что логос — скорее «разум», все размечающий и предусматривающий, который обходится без фонетических слов при совершении когнитивных операций (то, что операции идентификации, понимания, установления связей совершаются без слов, показано наглядно во многих экспериментах в рамках работы нашей научной группы). На всякий случай скажу в заключении, что все, что я представил в письме, сделал не язык и не слова, а я. Все, что я сказал, мне самому известно. Написать письмо «словами» нужно мне не для того, чтобы породить мысль, а для того, чтобы осуществить попытку семиотического воздействия на посторонние когнитивные состояния. Тождество, если его искать, содержится только в когнитивной сфере воздействующего коммуниканта, а не в автономных словах и языках.