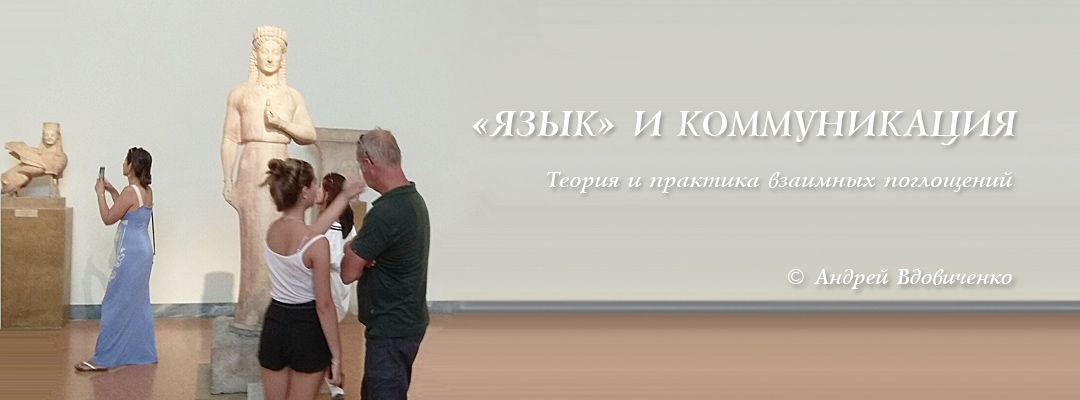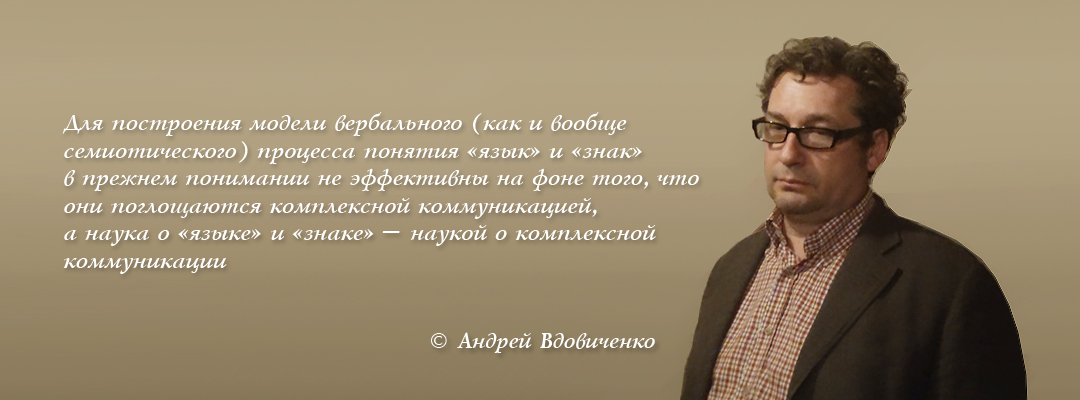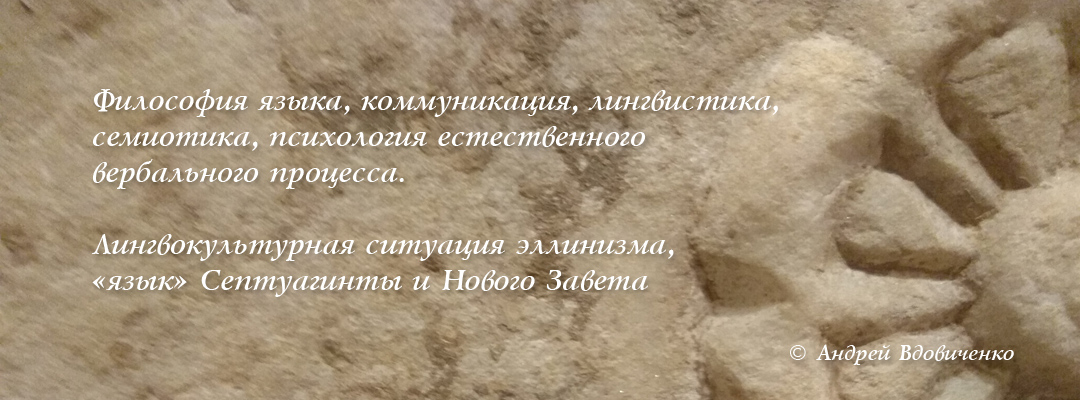Коллективный труд «Основы теории речевой деятельности» (далее – ОТРД) представляет собой сумму воззрений Московской психолингвистической школы (от Л.С. Выготского, далее А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина и др. до ныне здравствующих Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, И.В. Журавлева и др.). Проецирование деятельности и действия на вербальный факт, так или иначе реализованное в идеологической программе этой книги (насколько можно видеть в ней целостность), нужно считать наиболее перспективной возможностью создать адекватную модель вербального процесса.
Однако в ОТРД, подобно многим другим попыткам видеть значения в предметных знаках и интерпретировать составленные из знаков структуры, создаваемая теоретическая модель вербального процесса сводится к описанию «производства и понимания слов (вербальных знаков, «речевых действий», «речевой деятельности»)», в то время как в естественном семиотическом процессе порождаются и понимаются многофакторные и многоканальные коммуникативные (семиотические) воздействия коммуниканта, реализованные с привлечением или без привлечения слов. Ввиду этой фундаментальной неточности в ОТРД присутствуют не достаточно реалистичные – с точки зрения коммуникативной модели – способы концептуализации вербальных фактов:
- «Язык» в ОТРД воспринимается как целостный объект и как эффективный концептуальный инструмент. Как в случае с «языком», сторонники теории речевой деятельности тратят значительные усилия на поиски различных детерминант сознания коммуниканта (единая культура, единые значения слов, единое языковое сознание, единые культурные предметы, единая картина мира, и пр.), в то время как реального коммуниканта, совершающего семиотическое воздействие, все время интересует новизна – привнесение изменений в постороннее сознание, чего еще не было и нет ни в культуре, ни в языке, ни в значениях слов, ни в языковой и неязыковой картине мира, ни где бы то ни было. Тем более что в сознаниях различных коммуникантов никакого реального единства и единообразия ни в знании «языка», ни в знании значения слов, ни в восприятии культуры и картины мира засвидетельствовать невозможно. Авторы, таким образом, скорее, пытаются найти общность «носителей языка и культуры» в области бессознательного, но в том то и дело, что любой семиотический акт (в том числе с привлечение вербального канала) – это заведомо сознательный процесс, предполагающий постановку целей, анализ ситуации воздействия, выбор способов воздействия, намеренное изменение когнитивного состояния адресата и пр.
Так, Е.Ф. Тарасов (см. статью: Тарасов Е.Ф. Производство речи в теории речевого общения, в сб.: Per linguam ad communicationem. Ключевые вопросы лингвистической теории в режиме дискуссии. М., 2019) в «речевых процессах, обеспечивающих совместную деятельность членов конкретного этноса», находит, среди прочих, следующие детерминирующие факторы: совместная деятельность коммуникантов, осуществляемая по правилам конкретной этнической культуры; этническая культура, созданная членами этноса для обеспечения своего бытования в конкретном природном ландшафте; неязыковое сознание коммуникантов, существующее в виде совокупности различных образов сознания (образов восприятия, воспоминания, представления), в форме которых реальная действительность существует для членов этноса, и обладающее качеством интерсубъектности, т.е. являющееся общим для всех носителей конкретной этнической культуры как результат ее присвоения; языковое сознание как совокупность языковых единиц, т. е. как совокупность специальных культурных предметов, употребляемых в качестве тел языковых знаков, ассоциированных с образами неязыкового сознания, отображающими культурные предметы и деятельности по их изготовлению/потреблению.
Если всё общее, и всё у всех есть (культура, язык, предметы, значения слов, языковое и неязыковое сознание), то зачем говорящие говорят – непонятно. При этом если попытаться тестировать говорящих на предмет общего осознанного знания «языка», культуры, предметов, личностей, сразу выясняется безбрежное поле различий. Если в мире никем не осознанных объектов и связей можно попытаться констатировать единство (например, признать, что слово «модель» все видят одинаково, и в единой культуре оно имеет одинаковый смысл), то в мире семиотических процессов нет неосознанных неинтенциональных неличных процедур, а, значит, фактор различия сознаний не может себя не проявлять. Теорию семиотических процессов приходится, таким образом, строить с учетом фактора нетождественности сознаний – в области интересов, выделяемых объектов, признаваемых значимыми связей, ситуативных фокусов внимания, личных опытов и пр. (именно поэтому само слово «модель» без обладателя сознания оказывается неизвестно чем: она одновременно ходит по подиуму, стоит неподвижно под стеклом, отражает значимые черты объекта, является синонимом «модуль», или вообще глаголом, и пр.). На снова возникающий вопрос «А как же тогда говорящие говорят?» ответ дает только коммуникативная модель: они не говорят, а производят семиотические воздействия, вернее, попытки таковых. Смыслы и значения происходящего в коммуникативных процедурах заключены не в статическом «ничьем» и «никаком» мире (культуре, словах, языках и пр.), а в попытках производимых сознательных изменений, тождество (смысл) которым придает вариативное и интенциональное личное сознание.
- В ОТРД «язык» признается модулем, встроенным в порождение словесного высказывания, что заставляет исследователей вводить его как автономный фактор в модель описания вербального процесса. Ввиду того, что говорящие на родном «языке» не осознают его как грамматическую номенклатуру, не знают «язык» единообразно и не задумываются о письменном представлении того, что они говорят, – в коммуникативной модели вербального процесса принимается более реалистичная («более психологическая» и «более естественная») картина того, что по традиции называется «языком»: то, что известно говорящим на родном «языке», скорее, можно считать знанием (некоторого сегмента) коммуникативной типологии и коммуникативных клише. Не зная собственного «языка» ни в виде единого структурного тела, ни в виде написанных знаков, «носители» знают (в некотором объеме) типологические ситуации коммуникативных взаимодействий, которые совмещаются в их сознании с произнесением вербальных комплексов различной протяженности (в том случае, когда в коммуникативное действие вовлекается вербальный канал). Из этих индивидуальных наборов, на основе все той же коммуникативной типологии, создаются затем «нормы» (грамматики и словари) в различных (искусственно обособленных) сферах коммуникации.
Так, в статье Е.Ф. Тарасова (см.: Тарасов Е.Ф. Производство речи в теории речевого общения, в сб.: Per linguam ad communicationem. Ключевые вопросы лингвистической теории в режиме дискуссии. М., 2019) с одобрением цитируется Н.И. Жинкин, который на поверку репрезентирует как московскую психолингвистическую школу, так и всю «языковую» парадигму: «Применение натурального языка возможно только через фазу внутренней речи. Решить мыслительную задачу – это значит найти контролируемый выход из ситуации в определенном отношении. В языке это отображается в переосмыслении лексических значений. Слово не может обладать постоянным значением. Иначе при ограниченном количестве слов было бы ограниченное число высказываний, и вновь возникающее предметные ситуации не могли бы быть высказаны. Поэтому в процессе общения неизбежно меняется интерпретация лексики в силу того, что контекст определяет переосмысление лексических значений. Мысль в ее содержательном составе всегда пробивается в язык, перестраивает его и побуждает к развитию. Это продолжается непрерывно, так как содержание мысли больше, чем шаблонно-узуальные возможности языка. Именно поэтому зарождение мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде: представление так же, как и вещь, которую оно представляет, может стать предметом бесконечного числа высказываний. Это затрудняет речь, но побуждает к высказыванию. Таким образом, механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом мысль задается, во втором передается для первого звена»[1].
Как видно, в изложенной картине присутствует характерная путаница, свойственная любым попыткам сохранить «язык» в теоретической модели: в общении используется «натуральный язык», говорит Н.И.Жинкин (заключаем, что, с его точки зрения, «язык» эффективен как теоретический конструкт. – А.В.). Но его единицы постоянно переосмысляются (тогда можно ли считать язык чем-то определенным (удобным теоретическим объектом), если конкретных единиц в нем нет? – А.В.). Слово не может обладать постоянным значением (значит, единиц языка просто не существует в тождественном виде? – А.В.). Значения определяются по контексту (значит, в самих единицах определенного значения нет, а, значит, нет и того, что считается составленным из этих единиц – определенного «языка»?) – А.В.). Мысль всегда перестраивает язык, мысль больше языка (значит, мысль не то же самое, что язык и речь? – А.В.). Несовпадение языка и мысли объясняется тем, что мысль зарождается в предметно-изобразительном коде (значит, мысль свободна от слов и языка? – А.В.). «Механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь)» (значит, все же единый механизм мышления – и в первом звене речь, и во втором – тоже речь? – А.В.). Таким образом, язык есть, но его нет. Единицы есть, но они не обладают смыслом. Мысль больше языка, но она словесно-рече-языковая. Коммуникативная модель снимает эту запутанность: процедуры мышления не вербальны (см. эксперимент «Удар локтем»[2]); акты сознания не действенны (не акциональны, не могут привести к изменениям) во внешних когнитивных состояниях (процессах); семиотические акты (в том числе с вовлечением слов), наоборот, нужны обладателю сознания только для опосредованного воздействия на внешнее когнитивное состояние; они не совпадают с мыслью, пребывающей на стадии принятия решения о воздействии, которое затем совершается обладателем сознания в когнитивном пространстве (см. эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти»[3], в котором испытуемые – обладатели сознания – «записывали свои мысли» в виде «arnoleturah_grolta», «бдолутавегмар_жалми» и пр. Никаких слов и языков в этих «высказываниях» не было, но эти записи были частью смыслообразующего коммуникативного акта: испытуемые обнаруживали несловесное содержание собственного сознания и производили воздействие на внешнее когнитивное состояние – сознание экспериментатора).
- Отсутствует идея семиотического воздействия (попытки воздействия) как кванта коммуникативного процесса. В теоретической программе ОТРД речь идет о «деятельности», о «совместной деятельности», об «организации совместной деятельности», но об изменениях когнитивного статуса адресата сторонники ТРД почти вообще не говорят. Можно назвать эту позицию марксистским отголоском, эхом диалектического материализма: «деятельность как совместный труд». Делается акцент на цели и результате какой-то предметной деятельности ради удовлетворения жизненно необходимых потребностей («деятельность ради конечного продукта»), в то время как главным и прямым результатом любого семиотического акта является изменение когнитивного состояния адресата. Оно и есть мыслимый коммуникантом результат его опосредованного коммуникативного воздействия (после чего, впрочем, может последовать и та самая «совместная деятельность», запуск «общего ритма труда» (А. Платонов), но может и не последовать, а изменения в сознании адресата все равно будут иметь место).
Так, Е.Ф. Тарасов (см. указ. статью) дает характерный пример «деятельности как совместного труда», когда обращает внимание на «чрезвычайную сложность объекта исследования, в котором собственно речь имеет статус элемента в системе, которая есть совместная деятельность коммуникантов, детерминирующая развертывание речевого общения как процесса организации этой совместной деятельности и уже в этом общении появляется необходимость в речи в качестве инструмента организации как совместной деятельности, так и общения (курсив мой. – А.В.)».
Другой пример из статьи – очерченная Е.Ф. Тарасовым более правильная, чем языковая, теоретическая модель, которая отображает «1) двух субъектов совместной деятельности, каждый из которых, руководствуясь собственным мотивом, преследует одинаковые цели (без этого совместная деятельность невозможна), 2) их совместную деятельность и, следовательно, 3) их речевое общение, которое развертывается ради ее организации, 4) их языковое и неязыковое сознание, общность которого позволяет сотрудничающим коммуникантам использовать 5) специально изготовленные культурные предметы в качестве тел языковых, способных благодаря общности образов сознания, ассоциированных с этими телами знаков, регулировать 6) внутреннее и внешнее поведение коммуникантов, побуждая их к активности путем построения в сознании объекта речевого воздействия 7) образа этой активности в форме ментальной картины их потребностного будущего (курсив не мой. – А.В.)».
- В ОТРД повсеместно коммуникативное действие (с участием слов) приравнивается к речевому компоненту коммуникативного (семиотического) действия, отождествляется с ним. Поэтому рассматривается такое «речевое действие» (как у Остина, Серля и др.), в котором не мыслится комплексности любого естественного коммуникативного (семиотического) воздействия. В речевом действии, по ОТРД, действующим компонентом являются грамматикализованные слова-значения.
Так, статья Е.Ф. Тарасова (см.: Тарасов Е.Ф. Производство речи в теории речевого общения, в сб.: Per linguam ad communicationem. Ключевые вопросы лингвистической теории в режиме дискуссии. М., 2019) представляет собой пример попытки концептуализовать речевое действие, а не семиотическое (коммуникативное) воздействие с участием вербального канала: автору статьи, разделяющему и развивающему концепцию Московской психолингвистической школы (от Л.С. Выготского к А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейну, А.Н. и А.А. Леонтьевым, Ю.А. Сорокину и др.), приходится приписывать речевому действию то, что в действительности свойственно комплексному семиотическому (воз)действию – феномену гораздо более обширному и сложному, чем его возможная вербальная составляющая. Высказанное автором в конце статьи пожелание ко «всем настоящим и будущим создателям коммуникативной модели языка» учитывать сложность объекта исследования относится как раз к несовершенству «Теории речевой деятельности» (А.А. Леонтьев и др.), которая видит слишком простой объект – речевое действие – и к нему пытается свести всю «чрезвычайную сложность и многоаспектность» многофакторной естественной семиотической процедуры.
Коммуникативная модель предлагает, наоборот, признать, что в естественных коммуникативных интеракциях производится и понимается не речевое действие, а комплексное семиотическое воздействие. В таком случае «сложность и многоаспектность» следует видеть не в вербальных данных (язык, речь, слово, языковое сознание и пр.), не имеющих тождества и автономности и не способных к смыслообразованию, а, наоборот, вербальные данные следует считать элементом «сложного и многоаспектного» семиотического воздействия, которое может производиться и пониматься коммуникантами (в том числе, оно может быть зачастую произведено и понято без привлечения вербального канала, то есть без речевого действия).
Таким образом, фундаментальная неточность статьи Е.Ф. Тарасова состоит в том, что внимание исследователя, несмотря на декларативное обвинение редукционистской языковой модели в неточности и наивности, оказывается по-прежнему вербоцентричным и лингвоцентричным, обращенным к слову и «языку», которые дезориентируют исследователя в поисках подлинных механизмов смыслообразования. Невербальное когнитивное состояние коммуниканта – альфа и омега, начальный и конечный пункт семиотического воздействия, недвусмысленно психологический объект, отправная и конечная точка смыслообразования – скорее, подозревается и нащупывается автором интуитивно, с попыткой сохранения прежних вербоцентричных и лингвоцентричных воззрений. Поэтому когнитивный процесс в пространстве статьи слишком тесно увязывается с вербальными данными. Язык продолжает существовать как определенный объект со своими правилами и закономерностями. Значения языковых единиц отображают (моделируют) содержание образов сознания. Коммуникантов детерминируют единая культура, единое языковое сознание, единые вербальные знаки, культурные предметы, общая деятельность и пр.
Кроме того, исключительно высоко оценивая программу порождения речевого высказывания А.А. Леонтьева, Е.Ф. Тарасов приводит ее этапы, из содержания которых ясно, что А.А. Леонтьев (как и иные представители школы – Выготский, Лурия, Жинкин) занят описанием вербального предложения, а не семиотического многофакторного воздействия, способного производить тождественное смыслообразование: от мотива (с неясным статусом, то ли вербальным, то ли полу-вербальным) до передачи задания артикуляторным органам.
Попытки Е.Ф. Тарасова видеть комплексность происходящего сводятся к указанию на сложность свойств самой вербальной структуры. Видится все тот же вербальный объект, в то время как реальный говорящий не говорит/пишет слова, а производит семиотические воздействия, в составе которых могут быть и вербальные элементы – факультативные элементы коммуникативного смыслообразования (см. эксперимент «Просмотр видеонарратива без слов»[4]): «Если, однако, учитывать многоканальность и полисенсорность речевого общения и принципиальное сосуществование в едином речевом потоке языковых и метаязыковых высказываний, то понимание процесса производства заметно усложняется» (курсив мой. – А.В.). Кардинальное отличие коммуникативного действия (с вовлечением вербальных клише) от вербального высказывания продемонстрировано в эксперименте «Точка смеха в анекдотах», а также в статье-эксперименте «Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор»[5].
- В ОТРД отсутствует разделение коммуникативного (семиотического) и некоммуникативного (воз)действий. Поэтому отсутствует идея об опосредованности семиотического воздействия и непосредственности некоммуникативного воздействия (ср.: приветствовать коллегу, который в своем сознании считывает когнитивное состояние приветствующего и интерпретирует его «бесконтактный» семиотический поступок, vs резать хлеб, который не считывает и не интерпретирует, а подвергается прямому не опосредованному сознанием незнаковому воздействию). В ОТРД вся акциональная (смыслообразующая, «воздействующая») проблематика опосредованного семиотического воздействия «упрятана» в «совместную деятельность» («сотрудничество»), или коллективный трудовой процесс, и поглощена им (ср. говорение слов рабочими попутно с передаванием друг другу кирпичей, у Витгенштейна: главное – передавание кирпичей, а слова – где-то сбоку, но точно не главные). Говорение (письмо) рассматривается даже не как собственно деятельность, а как средство обеспечить совместную практическую деятельность. С точки зрения ОТРД, ничего нового и полезного для жизнедеятельности в процессе «речевой деятельности» не создается. Изменения сознания адресата как цель и результат коммуникативного воздействия (с участием слов) игнорируются, не замечаются (именно поэтому настоящая практическая «деятельность» отделяется от «речевого общения»). Деятельности семиотическая и несемиотическая в лучшем случае смешиваются, а чаще речевой акт рассматривается как придаток трудового процесса, как говорение без практического результата («общение»). Принципиальное отличие семиотического действия (и деятельности) от несемиотического – опосредованность воздействия сознанием (то есть когда семиотический актор воздействует на адресата через посредство его сознания знаковым «бесконтактным» поведением, а не как нож воздействует на разрезаемый хлеб) – фактически игнорируется в пространстве ОТРД. Такая семиотическая нечувствительность становится критичной для создания адекватной теории вербального и вообще семиотического процесса, поскольку теоретик ТРД невольно ориентируется на некорректно сконструированный объект: говорящий (вернее, семиотический актор) пытается произвести сложные изменения в сознании адресата, а теоретик ТРД видит в этом только желание говорящего вместе с адресатом попить чаю с бутербродами. В процессе говорения слов усматривается слишком утилитарная цель – совместная практическая («слишком практическая») деятельность. Вне принципиального разделения семиотического и несемиотического действий роли «посредников», то есть индивидуальных сознаний семиотического актора и адресата (к последнему актор обратился с собственным планом изменений его статуса), примитивизируется, вульгаризируется, лишается творческого преобразующего начала, сводится всего лишь к тому, чтобы быть автоматизированными передаточными механизмами (конвейерами), доставляющими внутренне-речные мотивы-мысли до точки внешне-речного обнаружения мысли (и обратно), что помогает координировать совместную деятельность по удовлетворению потребностей в жизненно необходимом.
Так, Е.Ф. Тарасов (см. указ. выше статью) устанавливает строгое «соответствие содержания единиц мысли и содержания языковых единиц»: «Критерием отбора языковых единиц, из тел которых говорящий/пишущий формирует речевую цепь, служит определенное (но всегда опосредованное) соответствие содержания единиц мысли и содержанию языковых единиц». Этот конвейерный процесс передачи коммуникантом значений через слова детерминируется общностью сознаний коммуникантов, общей деятельностью, общим этническим языком, связанностью значений языковых единиц с образами сознания: «Естественная презумпция этого отбора (отбора языковых единиц. – А.В.) существует в общности сознаний коммуникантов, сформированной при присвоении в онтогенезе предметной и деятельностной форм этнической культуры, идентичной для коммуникантов, и в общности их этнического языка, значения языковых единиц которого с определенной адекватностью отображают (моделируют) содержание образов сознания коммуникантов, которое (содержание), в свою очередь, отображает объекты деятельностей, созданных членами этноса для обеспечения своего существования в определенном природном ландшафте». В этой автоматизированной и детерминированной картине не остается места для новизны, но именно ее преследует и реализует коммуникант, обладающий диапазоном свободы, собственными интересами, вариативностью в выборе целей и способов воздействия, собственным видением, возможностью создавать объекты и актуальные множества, и пр. Несмотря на «единые для всех слова-значения», коммуникант совершает коммуникативные действия с их участием (и даже без). Иными словами, опосредованность коммуникативного воздействия состоит не в конвейерной функции сознания (перевод значения в знаки по правилам и обратно), а в вариативном действии сознания, принятии свободного решения о необходимых изменениях постороннего когнитивного состояния и в не обусловленных физическими процессами семиотических воздействиях (и их интерпретациях).
- Речевая деятельность в ОТРД воспринимается как выражение мысли, передача мысли, высказывание мысли, несмотря на то, что воздействие (напр., открывание двери, приказ) – это уже не мысль, а воздействие, или попытка воздействия. Мысль (принятие решения об открывании двери, о необходимости отдать приказ) остается на стадии планирования, определения объектов воздействия, анализа ситуации действия, и пр. (ср. намеренная ложь, в которой состояние сознания – «мысль» – и говоримый контент – элемент воздействия – разительным образом не совпадают). Идея воздействия в ОТРД последовательно не реализуется, поскольку теоретики заняты традиционным объектом «мысль, выражаемая (связанная со) словом». В тех немногочисленных эпизодах, где идея воздействия все же возникает, нет понимания того, что идея действия радикально перестраивает всю сложившуюся слово-ориентированную теорию вербального процесса.
Так, Е.Ф. Тарасов (см. указ. выше статью), говоря о модели речепорождения Н. И. Жинкина и Л.С. Выготского, дает всю характерную панораму слово-мысленного подхода к вербальному процессу, оставляя за бортом принципиальное разделение внутренней неакциональной невербальной «мысли» и акционального направленного вовне (возможно, с участием слов) семиотического действия: «Многозвенные модели Н. И. Жинкина, предложившего двухфазную модель речевых процессов – предметно-схемный код, овнешняемый в экспрессивной речи, и трехфазная модель Л. С. Выготского – мысль, отображаемая во внутренней (свернутой, предикативной) речи и репрезентированная субъекту мысли, и внешняя речь, репрезентирующая исходную мысль уже объекту речевого воздействия (реципиенту), показывают чрезвычайно сложный процесс производства человеческой речи». Теоретики (Л.С. Выготский, Н. И. Жинкин, Е.Ф. Тарасов), несмотря на декларированный психологизм вербального процесса, пытаются по традиционной лингвистической привычке утвердить его на единой мысле-словной территории.
- Слишком тесное увязывание мысли и слова (мысле-словная парадигма) ведет авторов ОТРД к созданию (одобрению) концепции «внутренней речи», которая фактически отождествляется с мышлением. Различные оговорки (о стяженности и свернутости внутренней речи, о ее предметно-изобразительном характере, о ее «внутренности» и «не-овнешненности» и др.) не меняют сути концепции: мышление в итоге оказывается «проговариванием мыслей» (заметим, что нереалистичность такого взгляда демонстрируется в экспериментах «Удар локтем»[6], «Запись последовательности символов по памяти»[7], где процессы мышления с очевидностью обнаруживают свою невербальность, независимость от «проговаривания»).
Так, Е.Ф. Тарасов (см. указ. выше статью) с одобрением ссылается на концепцию эгоцентрической детской речи Ж. Пиаже, проинтерпретированную Л.С. Выготским и для взрослой речи: «Эгоцентрическая речь, как экспериментально было показано Л. С. Выготским, выполняет функцию ориентировки в действительности. Последователи Л. С. Выготского уже после его смерти сформировали представление о том, что эгоцентрическая речь – это речевое мышление во внешней форме, пока у ребенка не сформировалась способность к речевому мышлению во внутренней, интериоризованной форме».
Ясно, что автор статьи так или иначе увязывает внутреннюю речь с процессами мышления, опираясь на концепцию Выготского: «Л. С. Выготский не только обосновал генезис внутренней речи взрослых говорящих, возведя ее к эгоцентрической речи, но дал ей правдоподобное толкование. Он рассматривал ее «как особый внутренний план речевого мышления, опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом <…> переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. <…> Переходы от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация – превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь»[8].
По-видимому, традиционная формула «в процессе говорения высказываются (передаются) мысли», «слово есть высказанная мысль» и пр. – принимаются Е.Ф. Тарасовым, вслед за Л.С. Выготским, по умолчанию, с незначительными оговорками.
Заметим, что высказывание мыслей и реализация (попыток) воздействий – принципиально различные процедуры: внутренняя неакциональная мысль обращена к «положению дел», представляет собой констатацию status quo, анализ ситуации и планирование действий самого «обладателя сознания», и пр.; в свою очередь, воздействие является результатом принятых в сфере когниции решений, направлено на достижение внешних изменений (как в коммуникативном, так и некоммуникативном пространстве). В коммуникативной модели (в версии А.В. Вдовиченко), в отличие от вербоцентричной модели ОТРД, семиотический процесс (и его возможные составляющие – вербальные и невербальные знаки) признаются необходимыми говорящему только для внешних воздействий на постороннее сознание. Его собственный когнитивный процесс не нуждается в знаках, в том числе «внутренней речи» (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). На самого себя обладателю сознания в ходе когнитивных процедур не нужно производить те же воздействия, какие он производит на адресата (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). Его когнитивный процесс не опосредован никакими знаками (смысл которых в том, чтобы представить внутреннее когнитивное состояние семиотического актора кому-то). Обращенный к себе, он находится в мире собственных образов, эмоций, представлений, интересов, связей, причинности, планов, ценностей и пр., каждое из которых не является «знаком, что-то обозначающим для постороннего». Все они не имеют вербальной (или какой-то иной) представленности до тех пор, пока нет необходимости осуществить воздействие на внешнего адресата (см. эксперимент «Удар локтем», «Запись последовательности символов по памяти»). Поэтому примеры эгоцентрической детской речи, якобы доказывающие процесс афункционального или какого-то еще мышления, представляются наивными: если констатируется ситуация «говорения ни для кого», это означает, что либо обладатель сознания в действительности представляет себе коммуникативный акт и пребывает в воображаемом коммуникативном пространстве (как происходит всегда, независимо от физического присутствия адресата; он «производит воздействие на мыслимого адресата»), либо, пользуясь свободой сознания, употребляет элементы коммуникативных воздействий (напр., слова) не по назначению – тестирует микрофон словами «раз, два, три», наслаждается прохождением чернильного пера по бумаге, выводя ни к кому не обращенные слова, произносит составленные из слов скороговорки, тренируя свой артикуляционный аппарат, и пр., – проявляя тем самым интерес к физической (физиологической) стороне вербального клише. Сами процессы мышления «говорящего» всегда остаются на невербальной стадии принятия решений, анализа ситуации, осознания собственных интересов и пр.
- В ОТРД присутствует избыточная увлеченность конкретным (физическим) предметом как якобы главным объектом внимания коммуникантов. Любая экземплификация в ОТРД становится игрой с какими-то предметами («превращенными», «мыслимыми», «организуемыми», «известными всем», «обладающими своими свойствами», «достигаемыми», «представляющими потребность говорящего» и пр.). В этом смысле показательна невозможность найти какой-либо «предмет» в актуальном семиотическом действии, реализованном с вовлечением слов: «Да!», «Ну ты даешь!», «А почему?», «Послушай» и пр. Ясно, что объект любого семиотического воздействия – это состояние сознания мыслимого адресата. Объекты, вовлекаемые в коммуникацию (предметы) – скорее, глубоко вторичная нетождественная субъективно представленная сущность, необходимая коммуниканту для воздействия. Семиотические действия, в состав которых вовлечены какие-то мыслимые предметы, и такие, в которые предметы не вовлечены («Да!», «А почему?», «Послушай») – принципиально едины в своей воздейственной на постороннее сознание природе.
- Присутствующая в ОТРД идея «достижения цели», «исполнения задачи» не осознается как прямая причина изменения воззрений на любые формы статического восприятия семиотической «деятельности». Так, понятие структуралистского (античного, соссюровского и пр.) «языка», сохраняемого в ОТРД, вводит полнейшую статику, непроцессуальность, но сохраняется в теоретической модели, которая, тем не менее, декларируется как «деятельностная», активная.
- В рамках нединамического (недостаточно динамического) понимания семиотического процесса отсутствует идея постоянного «рыскания» коммуниканта (несмотря на мнимую «общность слов, языка, культуры и пр.»), который ищет способы добиться нужного ему эффекта воздействия на данного мыслимого адресата (адресатов). Так, говорить с данным ребенком, ища способов воздействия на его сознание, — не то же самое, что говорить с данным взрослым (специалистом, знакомым, дядей Васей и пр.). «Рыскание», поиск эффективного воздействия – творческое начало, заложенное в основании любой коммуникации, ускользает от языка, общей культуры, языкового сознания и прочих инструментов вербоцентричного описания.
- В ОТРД коммуникативный акт признается возможным при наличии как минимум двух коммуникантов (между которыми возникает «совместная деятельность» и «сотрудничество»). В такой констатации присутствует важная и критичная для адекватности модели аберрация: адресат коммуникативного воздействия в действительности мыслится семиотическим актором как в случае «физического» присутствия адресата, так и в случае его отсутствия. Именно поэтому порождать семиотическое действие можно при физическом отсутствии адресата (его нужно просто представить, помыслить как объект семиотического воздействия), но невозможно производить семиотическую процедуру без мыслимого (присутствующего в сознании) адресата.
- В ОТРД отсутствует идея назначенности и условности выделяемых «единиц языка». Условность выделения единиц (букв, звуков, фонем, слов, словосочетаний, предложений) просто не замечается. В то же время невозможность найти смысловое тождество в отдельных «знаках» резко контрастирует с возможностью обретения смысла в конкретном коммуникативном поступке (со словами или без), где присутствует подлинный источник смыслообразования – индивидуальное сознание, состояния которого, или когнитивные режимы которого, можно понимать по совокупности параметров произведенного коммуникативного воздействия.
- Отсутствует идея о том, что сознание семиотического актора и адресата «обрабатывает» только одно коммуникативное действие, попадающее в фокус сознания, и о том, что целый текст (как множество вербальных следов коммуникативных действий) пониматься – обрабатываться сознанием – единомоментно не может.
- Отсутствует идея о том, что в естественных условиях коммуникации понимается не вербальная деятельность, а комплексное семиотическое действие субъекта, т.е. квант коммуникативного акционального поведения субъекта в представимой ситуации.
- Отсутствует понимание того, что семиотическое воздействие с вовлечением слов представляет собой частный случай семиотического действия. У А.А. Леонтьева есть указание на «частный случай знаковой деятельности», но тотчас он ошибочно говорит о главенстве и первичности вербальной «знаковой системы», в то время как эта «знаковая система» никогда не бывает автономной и изолированной от аудиальных, визуальных и пр. данных, от ресурсов индивидуальной долгосрочной и краткосрочной памяти, фреймов, ситуативных данных, фрагментов имеющегося (или отсутствующего) опыта и пр. Попытки ее обособления в теории приводят к концептуальному кризису, неадекватному навязыванию знакам собственных потенций смыслообразования.
- Устная и письменная речь воспринимается как «две подсистемы языка», а не как составляющие модусов совершения семиотического воздействия, или различные «следы» семиотического воздействия, по которым восстанавливается само семиотическое воздействие[9]. Отношения устного и письменного режимов семиотического процесса с участием слов – гораздо сложнее, чем прямая корреляция «устные – письменные высказывания».
- Теория языкового знака не претерпевает существенных трансформаций в коммуникативной перспективе (в том числе, не вводится понятие об условности выделения знака из состава целостного коммуникативного действия). Знак воспринимается в структуралистской парадигме (традиционно) как «единство означающего и означаемого в контексте», с опорой на физическую сторону («тело») знака.
- По умолчанию присутствует презумпция самостоятельного значения элемента. Отсутствует идея несамотождественности элемента (знака) вне личного коммуникативного действия, которое одно может пониматься и интерпретироваться.
- В ОТРД отсутствуют реальные примеры (в достаточной мере) естественного семиотического взаимодействия с участием слов. Реальные примеры не вписывались бы во многие объяснения ОТРД (напр., схема формирования вербального высказывания).
- В ОТРД парадоксальным образом присутствует стремление избежать психологической сути коммуникации путем сведения к различным объективным детерминирующим факторам (подсознательные грамматика, язык, культура, значения слов, свойства предметов, языковое сознание и пр.), по образцу «точных» и «естественных» наук. Вектор в сторону концептуализации новизны – привнесения изменений в постороннее сознание (подлинно психологический когнитивный объект) – оставляется за пределами теории. Однако только свободное сознание (диапазон свободного сознания) может быть интересным и достойным объектом гуманитарной эвристики.
- Отсутствует идея, что личное когнитивное состояние представляет собой последнее основание «значения» (которое становится акциональным, «воздейственным», интенциональным). В естественном семиотическом процессе интерпретируется не знак, а личное когнитивное состояние – психологический объект: на каких помысленных объектах семиотический актор фокусировал внимание, какие связи выстраивал, какие ценности обнаруживал, чье когнитивное состояние избрал для «внесения изменений» посредством коммуникативного воздействия и пр.
- В ОТРД фактически вводится разделение между деятельностью и коммуникацией. Деятельность по-марксистски рассматривается как оперирование с предметами. Отсюда уводящее в сторону разделение на «общение» и «совместную деятельность»: первое, по-видимому, оценивается в ОТРД (Тарасов) как не обладающее свойством создавать какой-то продукт, в то время как вторая нацелена на сотрудничество и обеспечение каких-то потребностей. Коммуникация не рассматривается в ОТРД как «создающая деятельность», в то время как именно в коммуникации семиотический актор добивается изменений в постороннем когнитивном состоянии (процессе), производя «когнитивный продукт». Эти изменения – суть самой коммуникации – в ОТРД не замечаются. Вербальное действие рассматривается как довесок к предметному действию, добавление к оперированию с предметами. Отсюда же присутствующая в ОТРД идея подчинения речи какой-то иной деятельности как таковой (то же у Витгенштейна).
- В ОТРД акцентируется идея коллективности языка, общественной значимости языка как средства обеспечения всеобщей деятельности, объективности языка. Однако это нереалистично: язык как объект не обнаруживает целостности и тождества в различных сознаниях; язык не может производить личное воздействие, поскольку в нем отсутствует конкретный семиотический актор со своим планом изменений чужого когнитивного статуса; язык невозможно понимать и рассчитывать на его понимание ввиду отсутствия в нем источника акционального («воздейственного») смысла – конкретного семиотического актора; пока «знаки» языка никто ни к чему не «приложил», у знаков нет никаких собственных потенций что-либо обозначать; коллективный язык, принципиально не обладающий личным сознанием, не может производить смыслообразования. Зато личное сознание при осуществлении смыслообразующего семиотического воздействия может обходиться без языка (см. указанные эксперименты и эксперименты-наблюдения).
- В ОТРД усвоение языка прямолинейно интерпретируется как процесс становления мышления. На основании коммуникативных воздействий, осуществляемых в том числе с вовлечением слов, действительно можно судить о когнитивных способностях. Но эта связь косвенная. Подобным образом, нельзя заключать о том, что обладатель сознания не думает, когда ничего не говорит. Усвоение «языка», согласно коммуникативной модели, состоит в приобретении умения (навыков) реализовывать коммуникативные ситуации (действовать в коммуникативном пространстве) и узнавать соответствующие клише, употребленные в подобных (лично известных) когнитивных состояниях воздействия. Поэтому процесс усвоения «языка» ребенком, а также патологий речи, отличий детского и взрослого языков (Выготский и др.), в ОТРД трактуется нереалистично.
- В ОТРД, вслед за языковой моделью, ввиду вербо- и лингвоцентричности (а также ввиду невольного игнорирования психологизма процессов смыслообразования в коммуникативном воздействии) даются нереалистичные трактовки грамматики, фонетики, синтаксиса, лексики, семантики, связного текста и пр.
[1] Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. М., 1964. № 6. С. 26-38.
[2] Вдовиченко А.В. Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41.
[3] Вдовиченко А.В. Соотношение когнитивного процесса и семиотического действия в языковой и коммуникативной моделях: эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти» // Вестник ПСТГУ Серия III «Филология», 3 (60) 2019. С. 29-42
[4] Вдовиченко А.В. Акциональное смыслообразование: что порождается и понимается в естественном коммуникативном процессе // Вопросы психолингвистики 2018 № 3 (37). С. 112-125.
[5] Вдовиченко А.В., Тарасов Е.Ф. Вербальные данные в составе коммуникативного действия: язык, текст, автор, интерпретатор // Вопросы психолингвистики 2017 № 4 (34). С.. 22-39
[6] Вдовиченко А.В. Факт сознания и коммуникативное действие: краткий эксперимент // Вопросы психолингвистики 2 (40) 2019. С. 30-41
[7] Вдовиченко А.В. Соотношение когнитивного процесса и семиотического действия в языковой и коммуникативной моделях: эксперимент «Запись последовательности знаков по памяти» // Вестник ПСТГУ Серия III «Филология», 3 (60) 2019. С. 29-42
[8] Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР). С. 353.
[9] Вдовиченко А.В. Вербальный процесс в зеркале чтения и письма // Вестник ПСТГУ Серия III: «Филология» № 3 (52) 2017, с. 62-75.