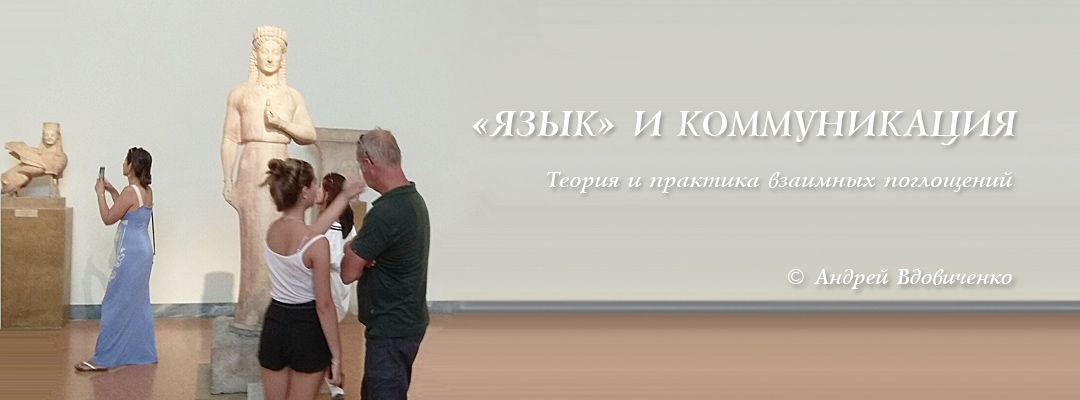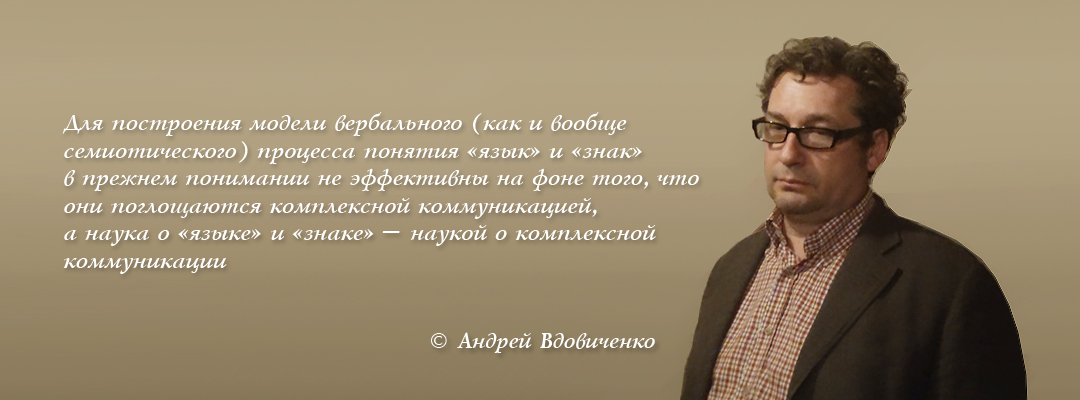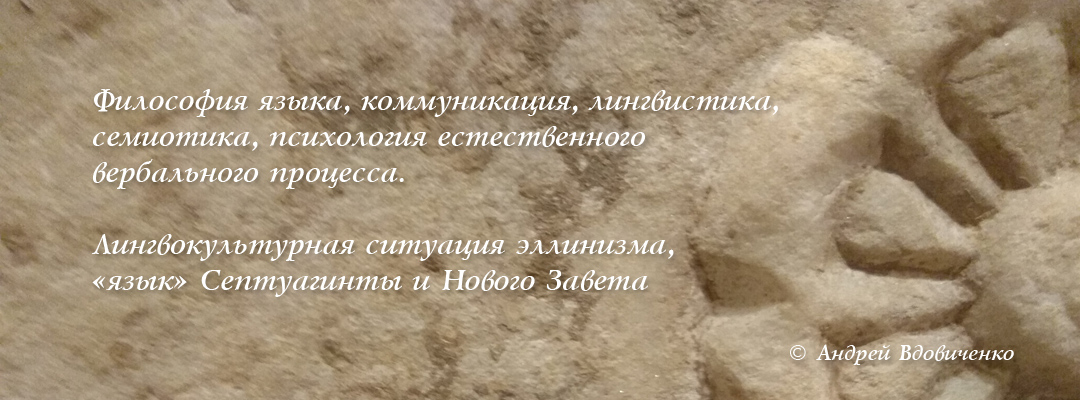В статье определяются контуры коммуникативной концепции поэтического текста, на фоне дискурсивного понимания любой коммуникативной деятельности и в связи с обвинениями поэтов, выдвинутыми Платоном в «Государстве» (подражательность, обращенность к неразумному началу, незнание предмета, коварное очарование и чуждость философии). Главным возражением и одновременно исходным пунктом осмысления поэтического текста является коммуникативное действие, производимое поэтом вместо признаваемого Платоном подражания (или «создания призрака» реальности). Определение специфики поэтического оборачивается рассуждением об особенностях формы коммуникативного действия и его дискурсивных параметрах. Подбором содержательных и формальных средств поэт как коммуникант добивается остраннения своего коммуникативного действия. Отношения автора и адресата составляют одну из главных проблемных зон, возникающих при поэтическом модусе их взаимодействия.
Ключевые слова: коммуникация, дискурс, поэтический текст, Платон о поэзии, остраннение коммуникативного действия, дискурсивная дефиниция поэзии, проблема тождества понимания
Вдовиченко Андрей Викторович – доктор филологических наук, вед. научный сотрудник сектора теоретической лингвистики Института языкознания РАН, профессор кафедры теории и истории языка ПСТГУ.
communication, discourse, poetic text, Plato about poetry, “stranging” communicative action, discursive definition of poetry, problem of identity of understanding
Andrey V. Vdovichenko
Vdovichenko Andrey – DSc in Philology, Institute of Linguistics, Russian Academy of Science, leading researcher; the department of theory and history of language, Orthodox St Tikhon University for Humanities, professor.
an1vdo@mail.ru
In the article contours of the communicative concept of the poetic text are defined, on the base of discursive understanding of any communicative activity and in connection with the charges against of poets brought by Plato in his “Republic” (the imitation, addressing to unreasonable part of a soul, ignorance of a subject, artful charm, extreneity of philosophy). The main objection to him and at the same time the starting point of the explaining of the poetic text is the communicative action made by a poet instead of the imitation recognized by Plato (or “creations of an image” of reality). Defining the specifics of the poetry turns into the reasoning on the form of communicative action and its discursive parameters. Poet as a communicant achieves the strangeness of his communicative action by selecting substantial and formal means. The relations of the author and the addressee make one of the main problems arising in the poetic mode of their interaction.
Как известно, Платон в своем «Государстве» засвидетельствовал, скорее, негативное отношение к поэтам и поэзии. Его позицию по многим обсуждаемым в этом сочинении вопросам можно признать взглядом типизированного «государственника» и сразу ввиду этого не рассматривать всерьез. Однако платоновская концепция поэтического творчества (вовлекаемые в нее объекты и связи) затрагивают ряд этических и лингвистических вопросов, не потерявших свою актуальность до сего дня. К суждениям философа – отнюдь не сугубо практическим – стоит проявить внимание, с обоснованным ожиданием извлекаемой пользы. По крайней мере, они могут стать ясно обозначенной отправной точкой для размышлений о столь разной и неопределенной в себе поэзии и о месте этого неопределенного объекта в современной философии «языка».
В финальной части рассуждения о поэтах и поэтическом творчестве, в 10-й книге «Государства» [Платон 1994: 389–420], Платон проясняет контуры своей концепции, выдвигая несколько вполне конкретных «обвинений».
- Поэзия в любой своей ипостаси (трагическая, эпическая, мелическая), вслед за живописью, является подражательным искусством. Поэтому она «втрое отстоит от подлинного бытия и легко создается теми, кто не знает истины, ведь тут творят призраки, а не подлинно сущее» (599a).
Поэзия, как подражательное искусство, создает миражи, «кажимости», и не касается подлинного бытия:
«Подражательное искусство далеко от действительности. Потому-то, сдается мне, оно и может воспроизводить все что угодно, ведь оно только чуть-чуть касается любой вещи, да и тогда выходит лишь призрачное ее отображение» (598b).
«Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетели и всего остального, что служит предметом их творчества, но истины не касаются?» (600e)
- 2. Поэзия, как и живопись, обращена к неразумному (чувственному, «яростному») началу души и потому приносит вред, а не пользу:
«Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения изощряет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы» (605а);
«Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись – и вообще подражательное искусство – творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому такое искусство не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно» (603a).
- 3. Поэты, как и живописцы, не сведущи в том, чему подражают:
«С помощью слов и различных выражений он передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь подражать, так что другим людям, таким же несведущим, кажется под впечатлением его слов, что это очень хорошо сказано… – так велико какое-то природное очарование всего этого» (601a);
«О том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего; его творчество – просто забава, а не серьезное занятие» (597b).
- 4. Очарование, свойственное поэзии, оборачивается коварством:
«Остережемся поддаваться опять этой ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать всерьез, будто такая поэзия серьезна и касается истины» (608b);
«Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свой внутренний порядок, и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии» (608b).
- 5. «Ребячливая любовь к поэзии, свойственная большинству» (608a), не должна заставить философа предавать то, что он считает истинным:
«Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею, но предать то, что признаешь истинным, нечестиво» (607c).Между поэзией и философией наблюдается разлад. Поэзия, чтобы быть принятой в благоустроенное государство, должна оправдаться перед философией, но пока не оправдывается:
«Это напоминание пусть послужит нам оправданием перед поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства, поскольку она такова. Ведь нас побудило к этому разумное основание. А чтобы она не винила нас в жестокости и неотесанности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией. Многочисленные поговорки… свидетельствуют об их стародавней распре» (607b);
«Тем не менее, надо сказать, что, если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой-нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее» (607c).
В позиции позднего Платона (в отличие, например, от некоторых пассажей в раннем «Ионе» или даже «Федре») импонирует отсутствие факторов чудесного и потустороннего, которые столь часто возникают в древних и современных рассуждениях о сущности поэзии, оформляясь как в различной мере экзальтированные и неточные: «поэтический язык», «поэтическая картина мира в языке», «поэтический дискурс», «магия поэтического слова», «божественное вдохновение», «священнодействие», «божественный глагол», «поэтический дар», «пророческое слово» и пр. Хотя Платон говорит о поэзии как об особом виде искусства, назвать «божественным» он может только личность, например Гомера (да и то по установившемуся обыкновению), но не поэзию как таковую. Будь она сама божественной, изгонять ее из своего государства философ не стал бы. Скорее, наоборот, он сосредоточен на упреках в адрес тех, кто мешает созданию правильного мнения о богах и в целом препятствует «божественному». В конце концов, он ратует за изгнание не поэзии, а поэтов, которые делают что-то не так, и готов приветствовать тех из них, кто исполнит достойно – с точки зрения философа – свою миссию (607a,c).
Постараемся поддержать это конструктивное – в своей антропоцентричности – направление платоновской мысли, отчасти вопреки, отчасти в унисон сказанному афинским «государственником». Личный фактор, плотно переплетенный с содержательным, смыслообразовательным, обещает вывести рассуждение о поэтическом искусстве в коммуникативные – доступные и вполне осязаемые, «не-чудесные» – области.
- Главный и наиболее весомый упрек, сформулированный Платоном в отношении поэтов, касается подражательности поэзии как вида искусства. Нужно признать, что теория подражания (мимесиса), на которую опирается Платон и которая, после тщательной разработки Аристотелем, в основных чертах приветствовалась в античности и средневековье, с точки зрения коммуникативных представлений о вербальном процессе, является далеко не безупречной в своем концептуальном решении.
Эта теория постулирует наличие образца, «подделку» которого производит мастер, подражающий образцу. Казалось бы, ничего страшного в подражании нет, поскольку подражать достойным образцам заведомо похвально. Однако в контексте платоновской (и шире – элейской) философской схемы самым первым образцом, «первообразом», является неизменное сущее, «вечная идея». Если сам конкретный предмет или явление уже не является первообразом, а лишь «тенью» первообраза (как это представлено в платоновском мифе о пещере), то подражание конкретному предмету или явлению отодвигается еще дальше и глубже в область искаженного бытия, или, как говорит Платон, «втрое отстоит от подлинного бытия», является тенью тени, стоит «на третьем месте от сущности» (ср. 596b-e; 597e). В третьестепенной подделке уже слишком много искажений, т.е. человеческой кажимости и ошибочности, и даже просто муляжности, в чем Платон и обвиняет явно и подспудно живописцев и поэтов.
Несмотря на стройность и увлекательность платоновского (элейского) мира идей и дальнейших стадий отдаления остального мира от подлинного бытия, уязвимость концепции подражания сразу становится ощутимой при попытках ответить на прямой вопрос: а в чем, собственно, состоит подражание, которым занят поэт? Чему и как он подражает, когда создает свои творения?
Так, например, чему и как подражает Алкей в своем известном (вероятно, известном и Платону) сохранившемся отрывке (пер. Вяч. Иванова; в дальнейшем рассуждении вопрос о «точности перевода» снимается, условно принимается тот факт, что стихотворение создал Алкей) [Алкей и Сафо 1914: 41]:
Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся — этот отсюда, тот
Оттуда… В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым,
Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы…
Даже на первый взгляд, слишком казуистичным было бы утверждать, что подражание чему-то или кому-то стало целью или причиной порождения данного поэтического текста. Столь же оправданным было бы приписывать подражание любому, кто говорит или пишет, причем, не важно, в «стихах» или «прозе».
Между тем приводимые Платоном в различных сочинениях примеры – детализированные и потому не оставляющие сомнений в своей понятийной конструкции – дают достаточно определенную мыслимую им картину подражания, в котором участвует и нарекатель имен, и живописец, и поэт, представляющие, соответственно, искусство создания слов (словосмыслов), живопись и поэзию. Во всех случаях речь идет о воспроизведении (подражании) какой-то реальности средствами, характерными для этих искусств: нарекатель имен (ономатет) подражает созерцаемой сущности при помощи звуков и слогов, живописец использует для этого краски и формы, а поэт, соответственно, слова, из которых составляются его произведения.
При этом живописец в приводимой Платоном аналогии всегда исполняет роль наиболее наглядного примера. Он возникает во всех случаях, когда философ касается словесного материала – «имен» (т.е. знаменательных слов) или поэтического творчества. Именно живописец дает возможность Платону привести всех к общему «подражательному» знаменателю, поскольку живописец наиболее наглядным образом воспроизводит подделки (нечто иное, но внешне похожее на образец).
Вместе с тем нужно отметить, что в деятельности ономатета, который дает «первые имена» (часто отличные от тех, которые доступны людям теперь), просматривается более достойное, с точки зрения Платона, занятие: ономатет видел перед собою не конкретный предмет или явление, а саму их идею (в отличие от живописца или поэта, которые подражают феноменам, т.е. «теням» идей). Ономатет, таким образом, не втрое, а всего лишь вдвое отстоит от подлинного бытия, создавая его копию.
Впрочем, так или иначе, речь идет о процессе подражания во всех случаях.
Здесь, пожалуй, и следует локализовать ахиллесову пяту платоновской концепции слова, а также живописного и поэтического произведений как подражательных. Эту точку необходимо твердо обозначить, чтобы не оказаться вместе с афинским философом в компании гонителей поэтов.
Дело в том, что Платон видит любой вербальный материал как отражение (или подражание) реальности – более или менее ей соответствующее. Реальность отражается, во-первых, словом самим по себе (если не брать в расчет оговорку, которая в самом конце «Кратила» ставит под сомнение все сказанное в этом диалоге): «первые имена» своим звуковым составом изображали (отражали) сущность вещи, или совершенно «подражали» ей благодаря мудрости ономатета. Во-вторых, реальность отражается в соединенных словах, т.е. в логосе: говорение есть высказывание мысли, а мысль, в свою очередь, может быть правильной или не правильной в зависимости от отношения к реальности и, в конце концов, к неизменному миру идей. Любой вербальный материал, представленный как соотнесенная с реальностью высказанная мысль, становится для Платона повествованием о положении дел (нарративом реальности). Заметим, что такая участь постигает любой вербальный материал, если признавать непосредственную связь слова и мысли [подробнее, Вдовиченко 2008: 19-28].
При такой диспозиции нет ничего странного в том, что пользователь «имен» (так или иначе отдалившийся от совершенства ономатета) подражает реальности лучше или хуже, когда имеет в своем распоряжении те или иные слова.
В свою очередь, поэт, логограф или историк, произносящий (пишущий) связанные «имена», подражает реальности правильно, менее правильно или совсем не правильно. Так, в отношении поэтов Платон часто говорит о богах, которых поэты представили в не должном свете, и, таким образом, приравнивает поэтов по «методам работы» к создателям исторических повествований. Иными словами, поэтический нарратив о богах мало соответствует реальности, и в этом вина (недолжное поведение) создателя нарратива. При этом важно отметить, что очевидная словесность и мыслимость любого актуального текста дает возможность стороннику концепции подражания всегда оставаться на твердой методологической почве, поскольку если мысль есть слово, а слово есть мысль, и если в любом тексте присутствует и то, и другое, то, значит, в любом тексте есть и подражание. Этот бастион, созижденный и укрепленный очевидным повсеместным «словомыслием», нерушим до тех пор, пока спаянность слова и мысли признается – в большинстве случаев по умолчанию – существующей.
(Здесь, чтобы избавить платоновские рассуждения от подозрений в глубокой архаичности и старомодности, заметим, что исповедуемая им концепция подражания до сих пор способна сохранять актуальность в современных теоретических конструкциях и подходах, основанных на увлекавшем Платона «мыслесловии». Так, очевидно вспомогательный (мнемотехнический) конструкт «язык» часто получает в лингвистических рассуждениях едва ли не онтологический статус благодаря некоей «денотируемой» реальности, которая, якобы, всегда стоит за вербальными фактами: слова отсылают к единообразно мыслимым всеми «значениям», и на этом строится концепция «языка» как системы смыслоформальных элементов. В свою очередь, «поэтический язык» как теоретический конструкт (например, для участников ОПОЯЗа) своим появлением обязан, с одной стороны, очевидному факту вербальности, а с другой – особой художественной реальности, слитой со словами, или отраженной (изображенной) поэтом в словах. Похожим «смыслословесным» образом устроена процедура этимологического анализа (как платоновского или позднее стоического, так и современного), в которой ключевым условием выступает априорно мыслимое единство этимона и значения (хотя, заметим, в естественном коммуникативном процессе слова или их части полностью и однозначно деэтимологизированы; при этом само методологическое оправдание этимологического исследования формируется все тем же – еще платоновским – априорно признанным единством мысли и слова). Похожим, свойственным еще Платону, видением вербальных данных объясняются многие опыты теоретизирования на уровне лексики, фразеологии, внутрифразового и сверхфразового синтаксиса, – везде, где присутствует категория автономного «значения слова», так или иначе отсылающая к общему образцу. В целом платоновское мыслесловие и сопутствующая ему концепция подражания прямо следует из спонтанного видения естественного коммуникативного процесса как единства произносимых слов и понимаемых в них значений, отсылающих к общей для пользователей слов реальности).
Благодаря спайке слова и значения (мысленного образа, мысли) Платон видит в словах – как в составе «логоса», так и взятых изолированно – прямое отношение к реальности, которая, согласно такой диспозиции, может – и даже должна – верифицировать деятельность поэта (а также историка, оратора и пр.), стоит на страже «истины» от неправильных шагов со стороны поэта, ставит перед ним высокий идеал «правды», и даже грозит получением упреков в нарушении границ реальности, с последующим изгнанием за неверное подражание ей (отражение ее).
А, между тем, поэт (как, впрочем, и логограф, и историк, да и живописец) занят совершенно другим.
В этом несовпадении («философ обвиняет поэта в одном, а поэт на самом деле занят совершенно другим») и состоит слабость концепции подражания и одновременно – просматривается возможность для поэтов, в конце концов, остаться в благоустроенном государстве после снятия несправедливого обвинения.
Дело в том, что поэт Алкей (как в приведенном случае, так и во всех остальных) поступал как любой говорящий (пишущий): он обращался к мыслимой им (возможно, условной) аудитории и видел в этом коммуникативном воздействии свою цель, сколь бы сложной и опосредованной она ни была для самого адресата или вторичного интерпретатора. Это, безусловно, «акт коммуникации с использованием вербального канала». Даже если «подражание реальности» (т.е. создание нарратива) временами занимает поэта наряду с другими промежуточными задачами, его целью всегда и во всем остается эффективное коммуникативное действие, исполнение которого доступными средствами (в т.ч. рассказыванием мифов о богах) он возложил на себя как участник мыслимой им вербальной коммуникации.
Возражая Платону, нужно подчеркнуть, что тексты, созданные с использованием вербального канала, принципиально едины не в том, что они подражают реальности (а по Платону получается именно так), а в том, что все они входят в состав комплексного личного коммуникативного действия, произведенного конкретным поэтом, прозаиком, биологом, математиком, таксистом, таможенником, дядей васей и др. Каждый из «авторов» преследует своей целью взаимодействие с сознанием (или воздействие на сознание) мыслимого адресата.
Нужно отметить, что сам Платон замечает коммуникативный аспект поэтической деятельности (хотя, конечно, не считает его ключевым), когда говорит о том, что поэт «хочет достичь успеха у толпы», а также о том, что поэт оказывает на слушателей определенное (негативное) влияние, «пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало».
В этом теоретическом состязании между статической концепцией подражания и динамической концепцией коммуникативного действия (обе схемы пытаются «схватить» и «удержать» «то, что в действительности происходит») свое недвусмысленное, окончательное свидетельство дают некоторые поэтические опыты нового и новейшего времени, в которых заведомо отсутствуют попытки подражательности (изображения реальности в ее формах), зато очевидно присутствует коммуникативное действие, «очищенное» от каких-либо вводящих в заблуждение признаков подражания. Так, Платону, вероятно, было бы сложно не согласиться с тем, что, например, в стихотворении №1 (1913) его автор А. Крученых полностью пренебрег каким-либо подражательным нарративом (как и слитым с ним «языком») и занят исключительно коммуникативным действием [Крученых 1973: 55]:
Дыр бул щыл
убѣшщур
скум
вы со бу
р л эз
(Точку в конце после [«эз»] поставить нельзя, поскольку в авторской рукописи ее нет).
Этот поэтический «черный квадрат» разрушает платоновский миф мыслесловия до основания, но не в состоянии самоустраниться из коммуникативного пространства и оказаться вне дискурса – мыслимой ситуации коммуникации с ее субъектно (вос)создаваемыми параметрами, необходимыми для порождения и понимания вербального действия.
- 2. Безусловно, объединение всех говорящих (пишущих) в один класс «коммуникантов» не способствует определению специфики поэтов и поэтического творчества. Однако восхождение к уникальности поэтов (в поисках эффективной защиты от платоновских обвинений) стоит продолжить с этого общего коммуникативного плацдарма ввиду того, что именно коммуникация составляет подлинное «занятие» любого говорящего (пишущего). Слова, в которых Платон видел подражание реальности, в естественном состоянии произносятся не для дублирования реальности, не для создания ее статичных муляжей, не нужных никому, а для воздействия на мыслимого адресата. Таким образом, коммуникация (как косвенное свидетельство тайного, скрытого в индивидуальном сознании, и как акциональный выход говорящего за пределы этой тайны) поглощает подражание, лишает его самостоятельной роли в рассуждениях о вербальной деятельности. Определение специфики поэзии (как вербальной деятельности) становится, в таком случае, определением специфики коммуникативного поведения, благодаря которой некоторые из числа коммуникантов считаются поэтами. Именно этих, а не других коммуникантов Платон решил изгнать из своего государства, обвинив в особых «провинностях». Их специфическая коммуникативная деятельность становится причиной дальнейших вопросов. В разряд поэтов, в конце концов, стремятся и попадают избранные пользователи коммуникативных вербальных клише, а не инструментов иной деятельности.
Сам Платон, рассуждая о поэтах, не дает строгого определения специфики их деятельности ни среди «подражателей», ни среди иных «мастеров» (вероятно, признаком поэта по умолчанию является для него используемые в их творениях слово, размер, ритм и метр). Судя по его замечаниям, поэтическое творчество следует, скорее, воспринимать как некую «форму жизни», которая не нуждается в определении, а просто существует и, соответственно, присутствует в сознании (или в подсознании) философа и не-философа. Но, обращаясь к нему же, справедливости ради, следует заметить, что если уж гнать, то хорошо бы определить точнее, кого. Вдруг среди изгнанных поэтов окажется невинный не-поэт. Или, наоборот, достойный изгнания поэт затеряется среди не столь вредоносных для государства не-поэтов. Иными словами, если уж называть кого-то поэтом, то хорошо бы определить критерии. И здесь не обойтись без формализующей «поэтолого-анатомии», или хотя бы попыток привлечь презренные дефиниции, поскольку говорить о поэтических произведениях, тем более о самих поэтах, можно только при достаточно отчетливых представлениях об объекте рассуждения. Итак, неизбежной становится попытка определить особенности коммуникативного поведения поэта для внесения окончательной ясности: виноваты ли поэты в чем-то еще, кроме подражания, и продолжать ли их осуждать и изгонять, если платоновские обвинения в подражательности считать снятыми ввиду признания поэтов «коммуникантами, как все»?
Сам афинский философ слегка касается специфики поэтической коммуникации в своем втором (условно выделенном в начале нашей статьи) «обвинении», говоря о страстном характере поэзии, ее обращенности к яростному, а не разумному началу души. На фоне платоновского понимания души, это обвинение выглядит столь же существенным, что и в подражательности. Как в мифе о колеснице (возница – разумное начало души, белый конь – яростная ее часть, черный конь – неразумное чувственное начало, и оба тащат колесницу в разные стороны, Федр 246а), так и в метафоре пастбища (пастух – разумное начало души, пастушья собака – яростная ее часть, стадо – неразумное чувственное начало, Государство 440d), поэзия, исходящая от и обращенная к «яростной» части души, может претендовать в лучшем случае лишь на смешанные чувства со стороны философа: с точки зрения Платона, «яростное» основание поэзии непрочно, не укоренено в истинно сущем, не обеспечивает правильного мнения об истинно сущем, и поэтому вредит душе.
Как видно, в этих ненарочитых попытках определить специфику поэзии Платон пользуется содержательным критерием, который, конечно, не может обеспечить точности измерений: «яростными» можно посчитать множество самых разных коммуникативных действий, в т.ч. совсем не поэтических. Вопрос о том, кого непременно следует считать поэтом, а кого нет, остается не проясненным (если, конечно, вообще ставить такой вопрос). С другой стороны, считать кого-то поэтом или не-поэтом нерефлективно, по умолчанию, вне осознанных оснований (как и поступает Платон) тоже, пожалуй, было бы не совсем верным, особенно в современном мире, изобилующем пограничными случаями.
Растерянности только добавляет очевидная тщетность попыток (а они неизбежно возникают) определять поэтов/не-поэтов «по плодам», т.е. по создаваемым произведениям. Несмотря на то, что лингво-поэтологическое исследование, казалось бы, попадает здесь на твердые – осязаемые и точные – основания: слова, звуки, фразы, высказывания, тексты и пр., – дальнейшие поиски всегда убеждают в невозможности выделить обязательные (необходимые и достаточные) формальные признаки, отличающие поэтический текст от иных текстов. Нужно признать, что не всегда работает даже последний формальный критерий «деление на строки, ряды» (греч. stikhos), свойственный, как будто, исключительно поэтическому произведению. Впрочем, такой критерий явно не может быть единственным, а, следовательно, достаточным для разграничения стихов и не-стихов: текст не обязательно становится поэтическим после деления на строки.
Кроме того, все без исключения «формальности» когнитивно не тождественны, не обладают слитыми с ними значениями, не могут быть признаком поэтического текста сами по себе, вне целого комплекса культурно-специфических (а иногда просто контекстуальных и конситуативных) связей и идей, которые образуют поле формирования смысла – как эстетического, так и денотативного (тесно связанных, впрочем, между собой в дискурсивной целостности). Так, феномен рифмы сам по себе не может быть признаком стиха или не-стиха, ввиду различия эстетических воззрений на это явление в различных сегментах коммуникации (временных, социокультурных, национальных, территориальных, жанровых и др.): рифма может использоваться как в «поэзии», так и в «прозе», иметь негативные и позитивные обертона восприятия, быть уместной и неуместной в данном коммуникативном событии, обязательной и необязательной к исполнению в рамках данной последовательности коммуникативных действий (тексте), и пр. К тому же, одной рифмы будет всегда недостаточно для воссоздания всей эстетической и денотативной панорамы коммуникативного события. Всегда необходимо сочетание «формальностей» (например, рифма+ритм, или рифма+отсутствие ритма), образующих общий рисунок вербальной части коммуникативного действия. А сочетания, в свою очередь, только умножат злоключения любого формалиста-систематизатора.
В этой неуверенности просматривается вольная или невольная правота Платона (а также тех, кто вовсе не задается целью отделить поэтов от не-поэтов по формальным признакам): поэта нельзя сконструировать из конечного множества дефиниций. Поэт либо есть, либо его нет. То же – о стихах: нечто вербальное – либо стихи, либо нет; при этом вопрос о критериях и дефинициях выносится за скобки, исключается из рассуждения (иначе в наказание за дотошность придется по пунктам расписывать, почему «Дыр бул щыл…» суть стихи).
В этой унылой безысходности рационального тупика можно отпраздновать содержательно-нерефлективную правоту Платона более широко и масштабно, с современным теоретическим размахом, на который только способна рационально не представленная Платоном коммуникативная интерпретация: отличительные признаки поэзии и поэтов следует искать как внутри, так и за пределами вербальной формы, в синтезирующем теоретическом пространстве дискурса (мыслимой ситуации коммуникативного действия), как, собственно, и поступает Платон и все, кто интуитивно говорит о поэтах и их творениях без отсылок на вводящие в заблуждение «формальности».
Определяя искомую специфику поэтической коммуникации (и попутно поэтического текста), ввиду невозможности представить перечень признаков стиха и тем самым отличить поэзию от не-поэзии, нужно обратить внимание на комплекс мыслимых условий, в которых реализуется данный акт коммуникации, т.е. на дискурс как мыслимую многофакторную ситуацию коммуникативного действия. При этом необходимо подчеркнуть, что любое смыслообразование состоит не в платоновском повествовании о реальности (нарративе реальности), а в целенаправленном воздействии на адресата, которое, в свою очередь, и есть causa finalis порождения любого коммуникативного действия, в т.ч. действия с участием вербального канала, включая поэтическое действие.
Поэт (или, например, псалмопевец, аэд, скальд, создатель трагедий, баян и пр.) создает сам и эксплуатирует уже наличествующие условия, при которых его коммуникативное действие можно считать особым, необычным, отличным от рутинных, и потому интересным, достойным пристального внимания. Оно, как правило, вписывается в заранее существующую культурную парадигму витийства, пророчества, инородности обыденному.
Впрочем, необычное поведение (с участием вербального компонента) уже само по себе является «знаком поэтического». Вероятно, отношение к необычному вербальному поведению можно было бы назвать поэтическим примитивом, от которого начинается отсчет специфики поэтического. Так, простейшие формы поэзии, возникающие в детской коммуникации, заявляют о себе не вследствие вписывания в традицию витийства, а вследствие самого факта необычайного вербального поведения, например, рифмы, создаваемой в вербальном потоке. В случае с детской рифмой (например, «Я все-таки достала, даже устала»), невозможно не признать необычным такое говорение слов, в котором «физические» элементы (тела слов), соположенные говорящим ребенком по фонетическим признакам, способны быть еще и осмысленными. Возникает игровой смыслоформальный пазл: края физических тел слов (или даже частей осмысленных фраз) неожиданно совпали, связались и составили смыслообразующее коммуникативное действие или намек на него. Полученное вербальное образование вследствие этой смыслоформальной игры стало необычным и любопытным, т.е. (примитивно) поэтическим.
Создатель поэтического произведения подтверждает изъятость из коммуникативной обыденности подбором содержательных и формальных характеристик предпринимаемого коммуникативного действия: от залезания на пифийский треножник и подражания шелесту священного дуба (невнятного говорения о чем-то) до использования рифмы, ритма, строф, музыкального сопровождения, телодвижений, картинок, включений «странных» языковых моделей, дробности и неожиданности фиксирования объектов и их связей, участия в рубриках поэзии и сборниках стихов и пр. Этот потенциально огромный перечень средств «остраннения» коммуникативного действия не может быть конечным, ввиду бесконечного разнообразия мыслимых коммуникативных позиций и свободы когнитивных процессов автора и адресата (заметим, что в отличие от введенного Шкловским «остранения» [Шкловский 1970: 230] и эффекта «очуждения» Б. Брехта [Тульчинский 1980: 241-245], отсылающих к необычности объекта изображения и некоей дистанции между ним и автором, – т.е. к некоей художественной реальности и отношению к ней автора, здесь речь идет о «странности» самого процесса коммуникации). При дискурсивной интерпретации поэзии об обязательных признаках поэтического действия можно не говорить, поскольку поэт (читатель), в конце концов, может сам формировать их произвольный набор, который будет достаточным субъективно или объективно (интерсубъективно). Последним оплотом, стоящим на страже проникновения «не-стихов» в избранный круг «стихов» и «не-поэтов» в круг «поэтов», в любом случае, будет возвышаться мнение адресанта (или адресата), признающего или не признающего за коммуникативным действием право называться поэтическим, а его автора – поэтом. Так, А. Крученых на всякий случай известил адресата, что «дыр бул щыл…» представляет собой стихотворение; хоть, впрочем, адресат после этого сохранил свободу согласиться или не согласиться с мнением автора.
Комплексность параметров, значимых для смыслообразования (в т.ч. используемые вербальные клише) характерна для любого естественного вербального материала, является его аутентичным свойством. Стандарт процедуры интерпретации любого коммуникативного акта состоит в понимании личного когнитивного процесса коммуниканта (мыслимого интерпретатором), в ходе которого было принято решение действовать именно таким образом. Слова, вопреки подражательной картине Платона, не могут сами собой что-либо означать, производя смыслообразование, поскольку они никогда не существуют вне коммуникативных синтагм, построенных каким-либо говорящим (пишущим), в которых только и может производится «означивание». В рамках этих синтагм определяются возможности адекватного воздействия и взаимодействия, избирается адресат, осуществляется прогнозирование результатов признанного возможным акта, производится выбор и расстановка мыслимых объектов, а также подбор различных инструментов коммуникации (прежде всего вербальных клише) и пр. Все это делает говорящий (пишущий).
Так, в результате принятого древнегреческим поэтом Алкеем решения вступить в коммуникацию с адресатом (хоть, впрочем, он мог бы принять иное решение, оставить мысль о возможном взаимодействии при себе, и не выходить в коммуникативное пространство) начинается организованная им смыслоформальная игра с сознанием читателя (слушателя). Последовательность коммуникативных действий занимательна и необычна благодаря ритму, метру и особой строфике («алкеева строфа»), возможно, архаизированной и диалектальной лексике, неожиданности темы, экспрессии коммуникативного действия, фиксированности его формы, возможного музыкального сопровождения и пр. Волны и ветры не сами дуют, скрепы не сами ослабляются – возникнуть в сознании адресата и затем так поступить на глазах у адресата их заставил автор. Слушатель (читатель) следит за состоянием обратившегося к нему говорящего, единственная подражательность которого, пожалуй, состоит в том, что он имитирует спонтанное говорение, в то время как написание любого подобного текста требует времени и труда. Алкей воспользовался доступными ему и адресату вербальными клише («эолийским диалектом древнегреческого языка»), чтобы вступить в коммуникацию. Эти клише бытуют (бытовали) в соответствующих сегментах коммуникативной деятельности, которые известны автору и читателю, клише ассоциируются с этими сегментами (так, говорить адресату «пойми», «мы носимся» или указывать на «смоленый корабль» – значит, заставлять сознание адресата изменяться благодаря вызыванию в памяти ситуаций, в которых эти изменения обычно достигаются таким способом). Слушатель, имеющий доступ к коммуникативным практикам, в которых данные клише приняты и понятны, с удовольствием участвует в коммуникации, интерпретируя авторское состояние и переживая собственное – сопереживая, воспроизводя в сознании доступные ему образы ситуаций, на которые автор сделал указания (намеки), и пр. Не последнюю роль играет удобовоспроизводимость поэтического коммуникативного действия, что делает возможным использование вербальных комплексов (или всего текста) как готовой формулы для совершения новых действий в новых условиях. Таким образом, поэт и адресат, как участники взаимодействия, субъективно мыслят данную коммуникацию успешной, занимательной и полезной. Тем более, если первоначальная аудитория – вполне определенные друзья поэта, члены митиленской гетерии.
Здесь, впрочем, платоновские обвинение в недостаточности разумного начала в поэзии обретает некоторые основания. Дело в том, что интерпретация коммуникативных действий (т.е. двусторонний процесс смыслообразования в общении автора и адресата) предполагает стремление к тождеству в восприятии объектов и связей, мыслимых автором и интерпретатором. В обыденной коммуникации, как правило, это тождество достигается единством практики, которая делает несомненными «мыслимые подлежащие». В простейших обыденных случаях объекты могут вовлекаться в структуру коммуникации указательными словами (и даже жестами) ввиду их несомненного присутствия в поле внимания говорящего и адресата и, соответственно, в сознании (напр., «Вы можете взять это с собой, и идти туда»). Более того, обыденная коммуникация с очевидностью направлена на практический результат взаимодействия, следствием чего является относительное невнимание к форме коммуникативного действия (так, кассир вряд ли будет рифмовать или «ритмовать» вербальные клише, разговаривая с покупателем; его/ее интересует иное). Автор поэтического текста, наоборот, часто – в зависимости от избранного жанра коммуникации – оказывается изъятым из верифицирующей практики, связанным с ней гораздо меньше, чем обыденный коммуникант. Поэт не просто лишен непосредственного контакта с адресатом (как, например, и «прозаик»), но и сам стремиться занять позицию «псевдо-одиночества», поскольку он часто «пророчествует», «парит над обыденностью», «созерцает области, недоступные иным» коммуникантам, сообщает о них не для обсуждения, а для разумно-эмоционального «откровения», его коммуникативный акт псевдо-односторонен, псевдо-не-диалогичен. Сфокусированность на форме (ради эффекта «остраннения» вербального действия) заставляет его тратить больше усилий на смыслоформальную игру (так, спонтанной «прозой», т.е. не собирая смыслоформальные пазлы, можно читать лекции, а спонтанными «стихами» читать лекции не удается), эта игра, в свою очередь, требует времени, а также интеллектуальных и эмоциональных усилий, которые обязывают поэта пребывать в творческом одиночестве. При этом адресат поэтической коммуникации все равно присутствует в сознании автора, он мыслим, хотя и лишен де-факто собственного голоса в момент вербальной игры, создаваемой поэтом.
Ввиду этого, несмотря на «физическое» одиночество, поэт все равно остается в рамках коммуникативной процедуры: смыслопорождение наступает только в случае какой-то интерпретации его коммуникативных действий; на какую-то интерпретацию поэт в качестве коммуниканта непременно рассчитывает, производя действие. Адресат, решивший вступить в общение с источником коммуникативного действия, в свою очередь, возлагает на себя приятное бремя истолкования и стремится понять поэта. Он наблюдает за ним отстраненно. Поэт, даже если непосредственно обращается к адресату в ходе своего монолога (например, говорит «ты» или «вы»), все равно отделен от аудитории непроходимой, хотя и проницаемой стеной, сквозь которую можно наблюдать коммуникативные действия, требующие истолкования.
В этом стремлении навстречу друг другу (без возможности повстречаться) тождество когнитивных состояний (в т.ч. мыслимых денотатов) не может быть обеспечено только словами, возникать только из слов. Хотя вербальные клише занимают в этом разделенном и опосредованном взаимодействии коммуникантов едва ли не главное место, вне совместной верифицирующей практики вербальные компоненты действия (слова) не обладают тождеством.
В идеальном случае когнитивное состояние автора обозначает собой предел интерпретации, осуществляемой адресатом. Однако этот предел нередко (или почти всегда) оказывается недостижимым, ввиду опосредованности взаимодействия автора и адресата, несовпадения мыслимых ими параметров действия, различия их фреймовых структур, отсутствия общего опыта и отсутствия единообразно воспринимаемых «концептов» и пр. Так, участник алкеевой гетерии, побывавший ранее в шторме на смоленом корабле, будет иметь иные представления о создаваемой Алкеем реальности, нежели тот, кто пытается моделировать «мятежную свалку», не обеспеченную собственным, тем более, совместным с Алкеем, опытом.
Кроме того, этот предел может просто отсутствовать ввиду неопределенности интенций самого автора, который в погоне за «остраннением» своего действия может злоупотреблять коммуникативными константами. Так, в «нефигуративных» поэтических действиях (или действиях с размытой «фигуративностью») императив интерпретации, который автор выдвигает перед адресатом (если, конечно, тот принимает его к исполнению), заставляет адресата искать реперные точки смыслообразования – и, конечно, находить какие-то в своем сознании. В поэтическом тексте (гораздо более, чем, например, в «бытовом») эти точки могут драматически не совпасть с авторскими. Как в случае, когда лидийский царь Крез не учел возможной особенности поэтической коммуникации, и коммуникации вообще, и обрел искомые, нужные ему, но не тождественные авторским, опорные точки смыслообразования. Как известно, спросив у пифийского оракула, стоит ли ему идти войной на персов, он получил, как ему показалось, вполне определенный стихотворный ответ: «Галис поток перейдя, великое царство разрушишь». Обрадованный царь перешел реку и в самом деле погубил великое царство, но только свое собственное. При этом оракул как поэт и коммуникант остался честен: он дал поэтический ответ на поставленный вопрос (произвел занимательное – организованное по форме и безответственное, двоякое по содержанию – коммуникативное действие). А Крез оказался неправым только в том, что слишком настойчиво искал в словах оракула четкую «фигуративную» картину (нарратив реальности), не замечая несамотождественности слов самих по себе и роли самого оракула в смыслообразовании. Расспросить жрицу подробнее было невозможно («жрица не кассир»), а слова, как им и полагается, оказались не тождественными сами по себе вне когнитивного состояния источника вербального действия.
Автор «остранненного» текста (в различной мере нефигуративного) катализирует эвристические процессы в сознании пытливого читателя и достигает тем самым максимального, нужного автору, коммуникативного эффекта. В этой игре ради игры, в этом достижении результата без помысленной самим автором твердой сердцевины, пожалуй, и состоит поэтическое злоупотребление механизмом коммуникативного смыслообразования: адресат ищет и находит, автор заставляет его искать, зная, что искать нечего. При этом диалог или совместная практика, способные принудить поэта и адресата к тождеству, отсутствуют.
(Здесь нужно заметить, что вербальный текст не в состоянии породить больше смысла, чем предполагал автор, поскольку смысл порождается только мыслящим источником вербальной последовательности: «текст сам себя не пишет, коммуникативное действие само собой не производится». Интерпретатор, в свою очередь, может до известных пределов восполнить авторский замысел новыми смыслами, внутренне оправдывая их тем, что они восходят к автору. Однако признавать, что тексты обладают способностью к собственному смыслообразованию, равносильно признанию магической природы словесного текста. Впрочем, нужно признать, что упование на волшебство часто имеет место, ввиду одной из главных констант коммуникативного процесса – свободы когнитивных операций, совершаемых участником коммуникации. Такой подход только умножает меру неразумности поэзии, о которой говорит Платон).
Так или иначе, поэтическая форма в стремлении к коммуникативному «остраннению» (к необычности способа коммуникации) зачастую проявляет терпимость и даже провоцирует когнитивный диссонанс автора и читателя. При нарушении главного закона мышления – закона тождества – разум слагает с себя полномочия. Смоленые корабли поэта и слушателя (читателя) бьются в пассионарной бессмысленности ветров и волн, воздвигаемых поэтическим актом.
«Зачем эта «мятежная свалка»?», спрашивает философ, ищущий в субъекте разумное начало.
Иными словами,
зачем
этот коммуникативный ажиотаж,
акцентирование формального,
произвол когнитивных инвазий,
бегство от фиксированных условий коммуникации,
отсутствие строгой дисциплины мышления (игнорирование тождества),
безответственная и бесполезная метафоризация,
злоупотребление культурным мифом «поэзии», «возвышенного», «потустороннего», «прекрасного» и мн.др.?
Оправдать это можно только тем, что коммуникация сущностно такова.
В процессе «остраннения» своего действия поэт акцентирует некоторые из ее естественных свойств. В своем движении по существующей коммуникативной шкале поэт вполне безобиден, и даже обыден. Коммуникация, в отличие от «сообщения мыслей языком», легкомысленна: она избавлена от прямых платоновских отсылок к объективной реальности мира идей или вещей. Поэт, как и любой коммуникант, всегда стоит между реальностью и словом. Он формирует и назначает нужные ему объекты, признает актуальными связи, оценивает параметры возможного взаимодействия и производит, в конце концов, операции с сознанием адресата, пользуясь всей палитрой особенностей ситуации. Как и любой говорящий, поэт различными способами организует коммуникативный акт, двусторонне свободный и более интересный, чем среднестатистический. Он и его действие продолжают при этом быть какими угодно (искренними, красивыми, лживыми, безобразными, чувственными, умными, возвышенными, безумными и пр.), что может быть свойственно любым коммуникантам и их действиям.
- 3. Предъявляя поэту обвинение в незнании того, о чем он пишет, Платон, очевидно, снова впадает в поиски реальности. В то время как поэта интересует не реальность, а в широком смысле коммуникативный ажиотаж. Или – производимое действие с прогнозируемым результатом и есть создаваемая реальность, искомая в ходе творческого акта. Фактическое незнание последствий того, во что трансформируется авторское действие, от которого остался только вербальный остов, заставляет конвертировать платоновское «слово-мысленное» обвинение в коммуникативный формат.
Поэт, породивший и отпустивший от себя стих (т.е «остраннивший» коммуникативное действие, сделавший несамостоятельный вербальный текст открытым для интерпретации и провоцирующим удивление и размышление, как любое «чудачество»), действительно, не знает, что творит, поскольку его действие (частью которого является словесный текст), укорененное в его сознании, переживает трасплантацию в сознание интерпретанта и начинает существовать вне досягаемости для автора в виде словесной формулы.
«Проза» (философская, научная и даже художественная) не столь чувствительна к внешней форме. Ее образчики можно гораздо успешнее переводить, пересказывать, ставить на сцене или представлять (частично) в рисунках и схемах, ввиду более значительного нарративного компонента в авторских коммуникативных действиях: автор в нарративе, скорее, старается уйти в тень, симулируя «реальность», чтобы создаваемый им факт выглядел самим фактом. Для поэтического текста стабильный и определенный облик (вербальная форма) представляет собой обязательную часть его коммуникативного содержания. Поэтический текст нельзя перевести (перевод поэзии – просто новый текст), пересказать, экранизировать, нарисовать. Стихи цитируют, а не пересказывают. Коммуникативная природа любого вербального акта в поэзии проявлена намного рельефнее, чем в «прозе», поскольку автор предпринимаемым «остраннением» (рифмой, ритмом и пр.) делает слишком заметной саму процедуру личного говорения, которая прорывается даже сквозь возможный в поэзии нарратив. Строго фиксированная форма поэтического текста, сущностно необходимая для стиха, способствует превращению полнокровного авторского акта в поговорку, которая в руках интерпретатора становится предлогом (и/или готовым материалом) для новых, его собственных, коммуникативных действий.
Так, процитировать Алкея можно в разговоре о современном состоянии российского экономики и социума («мятежная свалка»), об окрепших или ослабших «духовных скрепах», о «дури ветров» и «валов», и пр.
Алкей, конечно, не имел этого в виду. Более того, приведенный текст является, по-видимому, всего лишь фрагментом целостного стасия («бунтарской песни»), который ныне не известен никому в своем первоначальном виде. Не исключено, что поэт делал нечто совсем иное, например, воспевал блага спокойной жизни, лишь попутно, между прочим, пугая адресата ветрами и штормами (может быть, это был и не стасий?). Более того, Алкей вообще всего этого не писал, поскольку его оригинальным «языком» был древнегреческий, и стихи исполнялись под неизвестный аккомпанемент, а имеющийся русский перевод – скорее, стихотворение В. Иванова, который, тем не менее, от своего лица по-русски такое вряд ли написал бы.
Однако этот текст, лишенный авторской коммуникативной полноты, оказался мобилизованным в качестве «пушечного мяса» на новую коммуникативную игру со ссылкой на Алкея.
Знал ли поэт, что творил (т.е. «о чем сам написал»), и виноват ли он во всем происходящем с его текстом?
Здесь упрек Платона, по-видимому, неуместен. В новом актуальном использовании Алкея (в «манипулировании Алкеем») лично виновен новый коммуникант, превративший полноценное авторское действие в «развернутую пословицу» (или – в случае использования частично – в «развернутый фразеологизм») и принявший на себя всю ответственность за новый коммуникативный акт, украшенный – не без риторической цели – древним орнаментом.
Можно ли доступить до самого Алкея, преодолев обманчивость вербальной завесы (т.е. приблизиться к пределу смыслообразования – личному коммуникативному действию с его замыслом, реальными условиями совершения и пр.) и уже там его в чем-то обвинять? Вероятно, эта достойная миссия имеет смысл как процесс, с недостижимым результатом. Но даже это возможно лишь при условии, что поэт не «подражал реальности», а действовал в мыслимом коммуникативном пространстве. Это пространство и свое действие в нем он без сомнения осознавал лучше, чем любой вторичный интерпретант.
- 4. «Ребячливое очарование» поэзией, как упрек, скорее, направлено в сторону адресата. Поэт, по-видимому, виноват лишь в том, что знает и пользуется этим. Платон признается, что и сам он, а также его собеседник, бывают подвержены этой слабости, но ее необходимо преодолевать рассудком. Обвинение тем весомее, что под покровом очарования в душу вливается яд – неразумия, неправды, чувственности и пр., чем, по Платону, грешит поэзия. В способности очаровывать – вольное или невольное коварство поэтов.
Очевидно, ребячливое чувство, о котором говорит философ, неосознанно и просто. Именно поэтому, определяя его, Платон ссылается на неразумие ребенка. В очарованном поэзией взрослом, похожем на ребенка, работает некий (детский) поэтический примитив. Он состоит, по-видимому, в ощущении необычного коммуникативного поведения, которое достигается различными способами и воспринимается как «форма жизни» (вернее, как сдвиг обыденной «формы жизни»). Так, вполне житейское коммуникативное действие [«От всей души поздравляем Вас и желаем счастья и радости»] вряд ли будет воспринято как остранненная форма коммуникации. Зато в высказывании [«От души Вас поздравляем, Счастья, радости желаем»] уже есть претензия на необычность, т.е. на «поэтическое», благодаря наличию вербальных и околовербальных средств остраннения (рифмы, ритма и даже строфики), которые создают смыслоформальную игру – пазл из фонетических слов и осмысленных действий. Субъективно автор такого текста, безусловно, считает его позитивно выделенным из коммуникативной обыденности, если решается так говорить (писать) в актуальной ситуации, без иронии и пародийности.
Нужно признать, что, видя такие стихи, внешний интерпретатор, обремененный знанием иных, не столь упрощенных, образцов поэзии, чувствует себя неуютно. В нем возникают два разнонаправленных вектора, каждый из которых указывает на значимые признаки «поэтического» (может быть, самые значимые), высвеченные, как ни странно, в приведенном житейском примере.
Первый вектор – ощущение, что на примитивное вербальное действие навешаны неуместные побрякушки (рифма, ритм, строфика; автор избрал именно эти средства, хотя мог пустить в ход и другие, в дополнение или взамен, например, музыкальное сопровождение, пение, танец, «живую картину», и пр.). Зачем они здесь? По-видимому, без них было бы лучше. Однако так не считает «поэт», по-детски очарованный известными ему способами остраннения вербального действия. Ему доподлинно известно, что эти способы повсеместно (очень часто) используются в поэзии и служат поэтическому тексту верой и правдой.
И в этом с ребячливым автором сложно поспорить: рифма, ритм и строфа зачастую претендуют даже на звание обязательных для поэзии коммуникативных «побрякушек». Автор незатейливого стихотворения, похоже, все сделал правильно, и уже готов подпасть под обвинение Платона как поэт: без сомнения он сам увлекся очарованием детской коммуникативной игры (характерной, впрочем, и для высокой поэзии), и к тому же искренне попытался вовлечь в нее адресата.
Тем не менее, что-то мешает внешнему интерпретатору (и, возможно, адресату) согласиться на такую девальвацию «поэтического».
Второй вектор (ощущение того, что использованных житейским автором «украшательств» недостаточно для полноценного поэтического акта) как раз и указывает направление ухода от девальвации, а также – оправдание поэзии от платоновского обвинения в чарующем коварстве.
В попытках вербализовать смутное чувство неудовлетворенности житейским «стихом», безусловно, напрашиваются категории «банальности», «примитивности», «неуместности», «наивности» и пр. И здесь важно то, что эти определения – коммуникативные по происхождению. Они не выводятся из какого-либо «языка» (очевидно, что все нормы «русского языка» в примитивном стихе соблюдены, все нормы «поэтического языка» вообще неведомы никому). Они, напротив, всецело дискурсивны, т.е. выводимы из мыслимых условий коммуникации. Это короткое высказывание (как, впрочем, и любое другое, единичное или в составе текста) способно к тождественному смыслообразованию (т.е. к провоцированию в сознании адресата денотативного, эстетического, этического оценивания когнитивного состояния автора, в чем, собственно, и состоит понимание) только при воссоздании подлинных параметров дискурса (мыслимых условий действия). Сами по себе что-то означать эти слова, собранные в стих (как и любые иные) могут разве что в платоновском словомысленном мире. В реальном мире «вербальные остовы» коммуникативных действий сами по себе неавтономны (так, например, можно представить, что при изменении параметров дискурса на более причудливые, чем те, что обычно мыслятся для приведенного житейского «стиха», тот же самый текст уже не будет столь «банальным», «примитивным» и «наивным»).
Иными словами, искомая причина неудачи примитивной поэзии (пусть даже обладающей формальными признаками стиха) – в отсутствии содержательных остраннений. И, соответственно, в них же – достоинство подлинной поэзии.
Нужно заметить, что именно эта область обещает неизмеримое разнообразие, бесконечный и неиссякаемый источник поэтического. Если формальные способы остраннения можно перечислить, ввиду конечного числа подвергаемых счету явлений (рифма, ритм, строфа, размер, их сочетания, их нарушения и пр.), то содержательные – неисчислимы, ввиду свободы творческого сознания в установлении связей, выделении объектов, выборе аспектов видения и пр.
Пытаясь определить содержательное остраннение, необходимо сразу оговориться. Содержательное не означает только нарративное, сюжетное, фабульное, событийное, повествовательное, фактическое, пропозициональное и пр. Оно не означает даже, страшно сказать, присутствие платоново-аристотелевой «мысли» как таковой. Сложно отрицать, что мысль как умозаключение (которое, казалось бы, могло стать надежным индикатором «содержательности» в словомысленной модели любого вербального акта) связана с любым актуальным вербальным действием весьма косвенно. В то время как естественное говорение (письмо) является воздействием на коммуникативное пространство, мысль и вербальное (как и любое знаковое) действие оказываются едва ли не антиномичными, как, например, замысел открыть дверь и последующее открывание двери. Хотя нельзя отрицать, что в естественной коммуникации действие производится осмысленным говорящим (пишущим), но в момент актуального говорения мысль (замысел) остается далеко позади, на стадии принятия решения. Так, коммуникант может «действовать словами» совсем не так, как он думает, например, в случае лжи. Ввиду принципиальных различий мысли и вербального действия, на основании сказанных коммуникантом слов можно с уверенностью восстановить не мысль, а то, что коммуникант в данной ситуации решил (помыслил) так поступить. Дистанция между мыслью и естественным вербальным материалом («словом») очень велика, что во всех случаях значительно усложняет интерпретацию «мысли» автора по произведенному вербальному действию. В естественном говорении порождаются и понимаются гораздо более сложные, чем слова, акциональные комплексы данных (коммуникативные синтагмы, простирающиеся далеко за пределы вербального), вне которых вербальные клише не имеют когнитивного тождества.
Ввиду этого содержательное остраннение имеет не вполне мысленную природу (т.е. соотносится с мыслью косвенно), но при этом – вполне коммуникативную. Если поэтическое содержание, по Платону, старается быть истинностным, как любое (опять-таки по Платону) вербальное высказывание, то поэтическое содержание, по сути, является акциональным: соприсутственным, сочувственным, вовлеченным, взаимодейственным, заинтересованным, активно-реактивным и пр. Так, говоря [«Пойми»], Алкей не высказывает ни единой мысли. Платоновского содержания здесь нет. Зато поэт очевидным образом действует в коммуникативном пространстве, не оставляя никаких сомнений в «наполненности» (содержательности) своего вербального акта.
Та же акциональность присутствует и в классических, платоново-аристотелевых, «повествовательных» предложениях. Так, высказывание [«в их мятежной свалке носимся мы с кораблем смоленым»] только при полном игнорировании коммуникативного содержания можно назвать «констатацией факта», «субъектно-предикатной конструкцией», «пропозицией», «называнием подлежащего и его признака, сказуемого» и пр. Понятно, что это «утвердительное предложение» для Алкея – такое же действие, как и [«Пойми»]: назначая «подлежащее», выбирая его «признаки», и «признаки признаков», поэт целенаправленно и осознанно заставляет (пытается заставить) адресата переживать определенное когнитивное состояние, необходимое для достижения нужного поэту коммуникативного эффекта. Понятно также и то, что дистанция между замыслом («мыслью») осуществить такое действие (со всеми его последствиями) и самим действием велика: мысль автора очевидным образом локализована на стадии планирования, в то время как адресат переживает (если сам на это согласен) конечный результат его решений. Там, на стадии планирования, остались: оценка пространства коммуникации, признание уместности своего присутствия в нем, выбор адресата и возможностей его заинтересовать, назначение элементов коммуникативной игры (достойных упоминания объектов, явлений, свойств, их связей и пр.), подбор и «вбивание» вербальных клише в ритмическую, метрическую и строфную матрицу и пр. Эти подготовительные процедуры, с очевидностью имевшие место, заставляют адресата, скорее, с осторожностью отнестись к тому, чтобы броситься в порождаемую поэтом пучину, открыть себя для личного участия в этой авантюре (кажется, именно от этого предостерегает Платон). Но, так или иначе, мысль уже сделала свое дело и ушла в тень, осталось ранее спланированное «открывание двери ключом» (последняя, правда, в коммуникации не пассивна и может не согласиться на манипуляции над собой). Надежду на благополучный исход для отважного волонтера дает только искренность – столь же коммуникативная категория, введенная Серлем [Searle 1969] и Грайсом [Grice 1975] в ответ на неадекватность истинностного (логико-языкового) подхода к вербальному факту: возможно, у поэта все же не было недобрых намерений, несмотря на кровную заинтересованность в адресате и однозначную направленность всех творческих усилий на его сознание.
От так понимаемого «коммуникативно-содержательного» начинается отсчет искомых содержательных остраннений поэзии. Они, безусловно, осознаются в оппозиции к обыденному, среднестатистическому, регулярному (тоже дискурсивные категории), и устанавливаются в очень широком диапазоне, гарантированном творческой свободой сознания. Искомый поэтом коммуникативный ажиотаж в сфере содержательного создается чем угодно. В абсолютном измерении нет запрещенных приемов (разве что в рамках одной целостной последовательности коммуникативных действий с избранным модусом, т.е. «тексте»). В ход идут любые средства, сочтенные поэтом приемлемыми для спланированного – в идеале искреннего – манипулирования адресатом: призывы, упреки, жалобы, признания, упования, откровения, оскорбления, указания, обвинения, повествования, объяснения, констатации фактов, и главное – их неожиданные соположения в рамках единой последовательности, и мн.др.; рассудочный монолог, задушевная беседа, абсурд, ирония, юмор, насмешка, сарказм, их отсутствие или причудливое сочетание; гипербола, литота, гендиадис, «гендиатрис», метафора, метонимия, парафраз, оксюморон, оговорка, умалчивание, а также неожиданное отсутствие всего этого, а также их сочетания, и мн.др.; прекрасное, смешное, безобразное, святое, глупое, древнее, рыжее, лошадиное, вечернее, мужское, морское, африканское, космогоническое, неожиданные их сочетания и мн.др.; смена коммуникативных позиций в рамках единой последовательности действий, императивы, восклицания, вопросы, пунктирные включения наррации и диалога, звукоподражания, разноязычные слова, нарушения обыденных вербальных клише и их комбинаторики (кстати, конструируемый лингвистами «язык обывателя», во-первых, никогда для поэта не существовал, – как, впрочем, и для самого обывателя, а, во-вторых, давно и намеренно забыт); анафоры, анаколуфы, картинки, текстографика, ассонансы, консонансы, эвфония, звукопись, какофония, их неожиданные сочетания, и мн.др. В унылой обыденности редко встретишь такое, аккуратно разложенное к тому же по ячейкам избранной ритмической и рифмической формы (или, наоборот, небрежно разбросанное в нарушение ее проступающих границ). Вербальное действие с такими коммуникативно-содержательными признаками уже не может быть названо детской забавой ввиду сложности решаемых коммуникативных задач в многофакторных условиях. По крайней мере, оно может быть «взрослым». В сочетании с формальными средствами остраннения, и в некоторой зависимости от решения адресата, конечный результат использования этих бесчисленных инструментов коммуникативного действия может оказаться удачным и неудачным, успешным и неуспешным, как любая коммуникация.
Если в коммуникативном действии соблюден дискурсивный баланс между содержательным и формальным остраннением (этот баланс, например, кажется, не достигается в житейском стихотворении, приведенном выше), то формальные украшения перестают быть вульгарными. Организованный автором коммуникативный процесс не выглядит «глупой красавицей в побрякушках». Рифмы, ритмы, метры, строфы или даже их временное отсутствие лишь подчеркивают содержательное достоинство действия и деятеля.
Если Платон считает поэзию ядом в красивом сосуде для наивных, и, скорее, склонен предложить вместо нее родниковую воду в незатейливой плошке для философов, то почему бы не подумать о том, что поэтическая коммуникация – попытка наполнить расписную ойнохою хорошим вином для всех, по мере возможностей каждого?
- 5. Считая себя философом и осуждая в поздних сочинениях поэтов, Платон, тем не менее, по праву принадлежит к кругу и тех, и других. Глубокая содержательная остранненность его нерифмованной и не разделенной на стихи прозы (особенно в тех случаях, когда мифы рассказываются от первого лица Сократом-Платоном, и долго не прерываются репликами собеседника; при этом, согласно Платону, «поэт творит при помощи мифов») преодолевает формальную непоэтичность. Оставаясь философом, он, по крайней мере, на время превращается в поэта. Оказывается, можно изгонять поэтов и одновременно быть среди них. Постулировать антагонизм поэтического и философского, и сочетать их в собственных же творениях.
Это фактическое признание совместимости поэзии и философии, исходящее от самого же Платона (который при этом утверждает их несовместимость и прямую оппозиционность), лишь подчеркивает, что границы поэтов как вида (как, впрочем, и философов как вида, и других) являются нечеткими, «пушистыми», проницаемыми, намечаемыми только пунктирно. Поэт, с «нечеткой» точки зрения, может быть «больше или меньше», хороший, средний или плохой, настоящий или «так себе». Это странное шкалирование существительного «поэт» возможно только как дискурсивный феномен, и немыслимо в платоновском мире всеобщих и определенных идей, слов и вещей. Дискурс (осознанная ситуация коммуникативного действия), а также сама коммуникация как акциональный процесс – отменяют платоновскую концепцию подражания (а также символизации) реальности, и вместе с ней все платоновские упреки, спровоцированные «мыслесловием».
Иными словами, Платон как мыслитель оказался уязвимым в том, что «не заметил мыслимое коммуникативное пространство» (дискурс) и свободные действия в нем, понадеявшись на реальность (пусть даже реальность идей-вещей) и на мысли-слова, неосторожно поставленные с реальностью в прямую связь. Поэт, говорящий разные (не только «красивые») слова, на поверку оказался действующим коммуникантом, а не разрушителем или нарушителем мира умных сущностей, исказителем идеального, недостойным сосудом божественного вдохновения и пр. Если Платон видит перед собой реальность, образ которой деформируется поэтом и тем самым свидетельствует о его вине, то в коммуникативной интерпретации ничего подобного нет: поэт различными способами устраивает коммуникативный ажиотаж, более интересный, чем обыденная коммуникация, но сущностно тот же. Его деятельность может быть любой, и поэт может быть любым, даже – совершенно не по-аристотелевски – не-поэтом. В градуировании этой деятельности (и конечном приписывании ей каких-то предикатов) участвует огромный перечень дискурсивных параметров, доступных автору и адресату – формальных и содержательных.
В этой связи неудивительно, что для интерпретации «слов поэта» важным «параметром» служат конкретные обстоятельства его жизни, из глубин осмысления которых некогда родилось поэтическое коммуникативное действие, каким бы легковестным или, наоборот, нагруженным оно ни было. Остранненное поведение автора провоцирует у адресата и вторичного интерпретатора закономерный интерес к этой глубине, в надежде обрести следы реперных точек интерпретации. Они продолжают оставаться безнадежно удаленными и опосредованными. Но само внимание к modus vivendi поэта заставляет ассоциировать его с мнимо-антагонистичным философом, для которого его образ жизни есть конечное воплощение его философии. В ревнивых поисках свидетельств искренности коммуникативного действия в этой глубине можно всегда обнаружить что-то полезное для интерпретации.
В субъективной бездне неопределенности (повсеместном личном интерпретировании), которую всячески пытается элиминировать концепция объективной реальности, но которая несомненно – и исключительно – присутствует в вербальной коммуникативной деятельности, точка опоры теоретически может быть отмечена только там, где осуществлен свободный нравственный выбор личности (подлинная причина действия, «вина избравшего»). Поэт фактом своего авторства всегда остается в праве и в состоянии быть той самой исходной точкой когнитивной системы координат, необходимой для понимания. Но остранненность поэтической коммуникации (псевдо-одиночество, культивируемая инаковость вербального поведения, недоступность для практической верификации) заставляет адресата нагнетать усилия для ее заведомо невозможного обретения в тождестве. Поэт рассчитывает на это и пользуется этим. Адресат добровольно соглашается в этом участвовать. Его участие вознаграждается не только бодрствующим состоянием сознания, но и тем, что удобовоспроизводимые формулы поэтического текста пополняют арсенал его собственных средств для новых коммуникативных действий, где он сам становится автором и реализует свой нравственный выбор. Эта обоюдонаправленная коммуникация имеет все признаки успешности, даже при фактической разделенности коммуникантов.
Иными словами, в философском осмыслении «поэтического» статическая мыслесловная парадигма Платона нуждается в динамическом коммуникативном усовершенствовании, для избавления поэзии от несправедливых «философских» обвинений. Дискурсивное понимание вербального процесса закладывает краеугольный камень интерпретации поэтического текста как элемента коммуникативного действия. Концепция Платона, наоборот, скорее, игнорирует (пытается игнорировать) подлинную, коммуникативную, реальность.
Современный философ, взирая на то, как поэт и читатель (слушатель), подобно вакхантам, беснуются в эмоциональной пучине, вне тождества смыслов и твердой почвы совместной практики, – и, естественно, подумывая, не изгнать ли виновных в этом поэтов из своего «идеального государства», не может не иметь в виду уязвимость платоновских обвинений. Если древний философ видел за словами реальность мира (идей или вещей), то современный философ не может не видеть за ними реальность коммуникации. В самом деле, не считать же, например, что объекты-«подлежащие» формируются независимо от индивидуального сознания, или что автор прямо транслирует словами свои мысли, а не избирает способы воздействия на сознание адресата. Имея в виду более реалистичную, чем платоновская, дискурсивную этиологию поэтического коммуникативного ажиотажа, философ скорее проявит снисхождение, видя в поэзии безобидную и свободную коммуникацию. В отличие от обыденной, она более легкомысленная и безответственная, но зато менее насильственная. Временами она готова истончиться, пользуясь образом самого Платона, до состояния своей чистой идеи, спокойного необременительного изящества, благодаря избавленности коммуникантов от прямого контакта, благодаря серьезности их заочных отношений, а также свободе для адресата участвовать в общении или самоустраниться.
Нужно заметить, что предъявить коммуникативную природу поэтического текста в полноте можно только остенсивно, указав на живую практику – чтение или написание стихов, – или даже, скорее, поучаствовав в ней, вне попыток теоретизирования и формализации. Любые рассуждения будут чем-то иным, недостаточным, в сравнении с актуальным коммуникативным процессом. В особенности – строго лингвистические рассуждения, слишком увлеченные словомысленной правотой Платона и оттого зачастую похожие на патолого-анатомическую экспертизу. Ввиду того, что коммуникативное смыслообразование составляет единственную цель и причину создания любого вербального текста, и оно всецело дискурсивно, – эффективному анализу поэтического вербального действия по своим методам и интуициям более соответствует литературоведческий подход, дополнительно оснащенный, быть может, коммуникативными лингвистическими инструментами.
Источники (Primary sources in Russian)
Алкей и Сафо 1914 – Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков. Пер. и вступ. статья В.Иванова. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1914. (Alcaeus and Sappho. Collection of poems and fragments. Moscow, 1914. Russian translation)
Платон 1994 – Платон. Государство / Собрание сочинений в 4-х томах, Том 3. Пер. А. Н. Егунова. М.: «Мысль», 1994. C. 79–420. (Plato. Republic / Set of works. Vol. 3. Russian translation)
Крученых 1973 – Крученых А.Е. Избранное. München: Центрифуга, 8, 1973. (Cruchenych A. E. Selected Works. München, 1973. in Russian)
Ссылки
Вдовиченко 2008 – Вдовиченко А.В. Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М.: ПСТГУ, 2008.
Тульчинский 1980 – Тульчинский Г. Л. К упорядочению междисциплинарной терминологии // Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
Шкловский 1970 – Шкловский В. Б. Тетива: О несходстве сходного. М.: Советский писатель, 1970.
Grice 1975 – Grice H. P. Logic and conversation [Text] / H.P. Grice // Syntax and Semantics. P. Cole, J. L. Morgan (Eds.). New York: Academic Press, 1975.
Searle 1969 – Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language [Text] / J.R. Searle. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
References
Vdovichenko A. V. Parting with “language”. Critical retrospective of linguistic knowledge. Moscow, 2008. (in Russian).
Tulchinsky G. L. Towards arranging of the interdisciplinary terminology // Psychology of the artistic creation. Leningrad, 1980. (in Russian).
Shklovsky V.B. Bowstring: About dissimilarity of similar. Мoscow, 1970. (in Russian).
Grice 1975 – Grice H. P. Logic and conversation [Text] / H.P. Grice // Syntax and Semantics. P. Cole, J. L. Morgan (Eds.). New York: Academic Press, 1975.
Searle 1969 – Searle J. R. Speech acts: An essay in the philosophy of language [Text] / J.R. Searle. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.