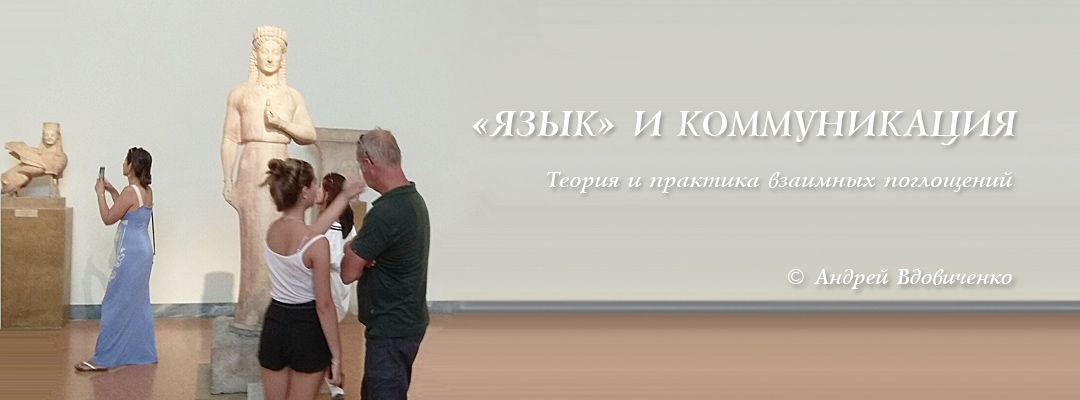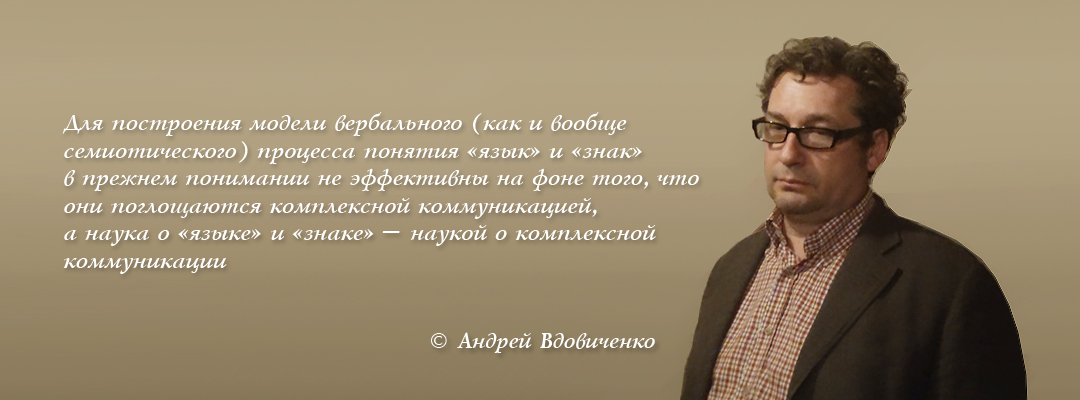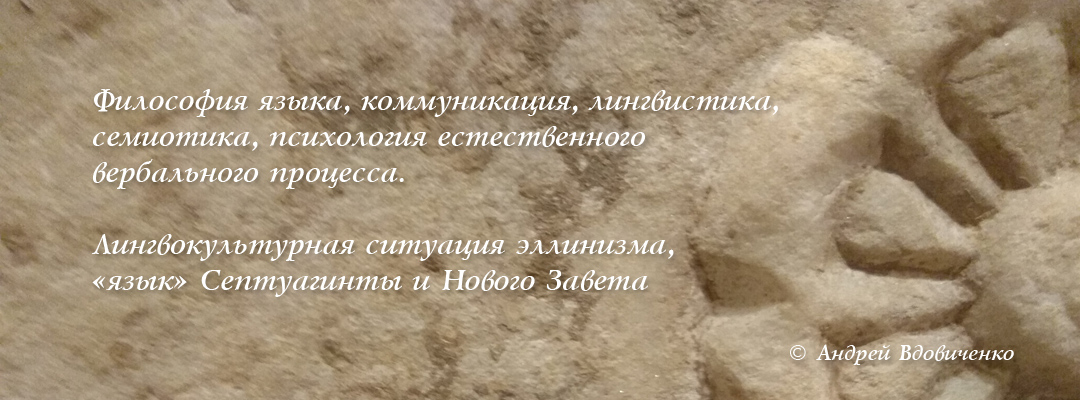Языковая модель, начиная с самых ранних версий и до настоящего времени, по умолчанию признает тесную связь (переходящую зачастую в признание полного тождества) между когнитивным и вербальным (словосодержащим) процессами: «мысль реализуется в слове», «мысль отражается в слове», «мысль не существует без слова», «слово (речь) есть эксплицированная («оречевленная») мысль», «слово передает мысль», «мысль оформляется словом из аморфного сознания» (Соссюр), и т.д.
Между тем в самом теле языковой модели присутствуют замечаемые ею подозрительные симптомы, своего рода «контр-примеры», свидетельствующие о нечетком видении объекта моделирования и о концептуальной неполноте (ошибочности) самой модели.
Так, Аристотель, рассуждая о правильной и неправильной (истинной и ложной) мысли-суждении и создавая логическую грамматику суждений, намеренно игнорировал вопросы, императивы, высказывания о будущем, относя их к компетенции науки риторики и «науки о душе», так, как будто в такого рода «речах» (логосах) не участвует мыслительная деятельность, ради исследования которой и создавался Органон.
Кроме того, языковеды сравнительно быстро стали замечать, что между множеством слов и множеством смыслов (даже в номинативных парах «слово-предмет/явление») нет одно-однозначного соответствия: слов гораздо меньше, чем мыслимых или реальных объектов/явлений, и, наоборот, для любого объекта/явления можно подобрать множество разных слов. Одному слову всегда приходилось «отвечать» сразу за несколько «обозначаемых», которые в реальности непонятно по какой причине все же говорились и понимались в относительном тождестве. Одному объекту/явлению всегда соответствовало множество слов. На этот вызов языковая модель ответила учением о контексте, которое только усугубило теоретическую неуверенность: признание необходимости контекста для слова со всей определенностью означает, что в автономном слове понимаемая мысль («смысл и значение», семантический квант высказывания) присутствовать не может. Сам знак оказался не в состоянии адресно отсылать ни к общим понятиям, ни, тем более, к конкретным представителям родов и видов, и наоборот.
Кроме того, всегда было понятно, что в составленном из слов «языке» неконфликтно могут сосуществовать две взаимоисключающие пропозиции (напр., [Земля имеет форму шара] и [Земля не имеет формы шара]). Это в действительности происходит потому, что «языку» неведомы законы мышления («правильной мысли»). В отличие от «языка», личный когнитивный процесс не может строиться на одновременном принятии двух взаимоисключающих положений (последнее стало теоретически ясно уже Аристотелю, сформулировавшему закон исключенного третьего, а практически применялось гораздо раньше, с тех пор как человек мыслит). Языковая модель, таким образом, обнаруживала, что во всех смыслообразующих процедурах (ради чего произносятся слова и другие знаки) «работает» индивидуальная когниция (сознание), в то время как в «языке» личность (автор и адресат этих процедур) принципиально отсутствует.
Кроме того, довольно рано в рамках языковой модели было констатировано, что «пословный» перевод является не лучшим способом транслировать «высказывания-мысли» с одного «языка» на другой. Практика перевода, таким образом, подспудно свидетельствовала, что «мысли, выраженные на разных языках», соотносятся не благодаря корреляции слов, а, скорее, целых высказываний, в которых только и можно видеть «целостную мысль».
Совсем странным, с точки зрения языковой «речемысленной» модели, всегда выглядела часто реализуемая на практике возможность пользоваться «невербальными высказываниями», то есть «сообщать и понимать мысли без слов», передаваемые жестами, демонстративным поведением, издаванием невербальных звуков, выражением лица и пр.
И, кроме того, всегда не мог не провоцировать вопросов онтологический аспект «высказывания мыслей»:
1) высказывать правильную мысль, с точки зрения простой логики, не имеет никакого смысла: положение дел, соответствующее суждению о них, и без высказывания мысли о них существует в реальности (как, впрочем, и в сознании говорящего, коль скоро он в состоянии высказать мысль о положении дел);
2) высказывать ложную мысль как правильную (добросовестное заблуждение) также ни имеет никакого смысла ввиду ее правильности, с точки зрения говорящего, и ложности, с точки зрения реальности;
3) произносить намеренную ложь тем более не имеет никакого смысла, ввиду ее заведомой ложности для самого говорящего;
4) произносить вопросы, императивы и пр. также не имеет никакого смысла, поскольку никакое состояние мира (истинное или ложное) в вопросах и императивах заведомо не содержится, то есть никакой истинной или ложной мысли в такого рода высказываниях найти нельзя.
При этом реальность всегда свидетельствовала, что говорящие, несмотря на бессмысленность происходящего («говорения мыслей»), все же высказывают «субъективно истинные суждения», странным образом «дублируя» (с точки зрения языковой модели) состояние дел в мире, а также «говорят намеренную ложь», а также произносят не констатирующие никакого состояния мира вопросы, императивы и пропозиции с самой различной модальностью – от ламентаций и сомнений до оскорблений и оценок (в которых все же странным было бы отрицать наличие мыслящего актора).
Объяснить бессмысленно-странное поведение обладателя сознания можно только в рамках коммуникативной модели: семиотический актор говорит (а также демонстрирует, показывает, ссылается и пр.) не затем, чтобы неизвестно зачем констатировать состояние дел в мире (аристотелевская «(не)правильная мысль»), а затем, чтобы изменить внешнее когнитивное состояние. Он делает это посредством комплексных воздействий, в том числе словосодержащих, обнаруживая акциональный режим собственного сознания, который, в отличие от слов (и прочих изолированных знаков), адресат (или вторичный интерпретант) может распознавать и понимать по воссоздаваемым параметрам производимого действия (интериоризация).
То, что производит семиотический актор, не может быть названо мыслью, ввиду кардинального различия между мыслью и воздействием. Древний миф о единстве слова и мысли не может быть подтвержден реальностью коммуникативного процесса. Последний принципиально отличен от процессов сознания по критерию акциональности: посредством семиотического поступка (в том числе такого, в котором используются слова) семиотический актор (коммуникант) воздействует на постороннее сознание, в то время как внутренний мыслительный процесс неакционален, созерцателен, не наблюдаем извне.
Попытки сохранить слово-мысленность в теоретической схеме неизбежно приводят к вульгаризации и упрощению моделируемой реальности. Так, древние рассуждения об «именах вещей» представляют подлинный семиотический акт как беспричинное называние объектов (вещей), как игру «назови объект правильно». В то же время субъекта когниции и семиозиса интересует не объект, а акциональная коммуникативная процедура воздействия на постороннее сознание, в которой выделенным объектам («вещам») отводится относительно скромная роль (доказательством пренебрежении к «называнию вещи по имени» служит распространенная ситуация, когда коммуникант вовлекает в свое действие нечто посредством указательных местоимений, жестов, показов, и пр.: любой объект может превратиться в анонимное [это], [оно], и пр.) На фоне того, что языковая модель видит в естественном вербальном факте «выражение мысли», коммуникативная модель признает любой естественный вербальный материал неавтономной частью коммуникативной процедуры (коммуникативного воздействия), что означает наделение индивидуального сознания более почетной миссией, чем безнадежная скованность рамками «языка». Свобода сознания от «языка» (и навязанных языком «концептов», «языковых картин мира», «национальных менталитетов», «национальных самосознаний» и пр.) достигается отделением мысли (созерцание, воспоминание, планирование действия, и пр.) от действия (семиотический поступок, в том числе, словосодержащий).